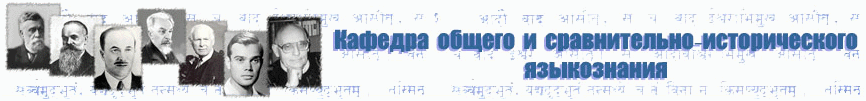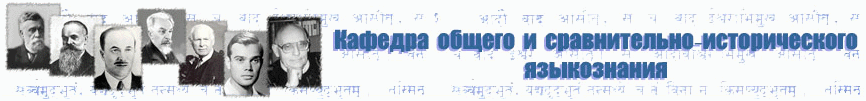Чувственные
восприятия представляются наблюдению не одной сплошной массой, а рядом групп;
стихии каждой из этих групп порознь находятся между собой в более тесной связи,
чем со стихиями других групп. Такое явление не первообразно. Соединение
восприятий в отдельные круги есть уже форма, придаваемая душой отдельным
восприятиям, и в некотором смысле может быть названо самодеятельностью души,
потому что хотя не обнаруживает ее свободы, но столь же зависит от ее
собственной природы, сколько от свойства внешних возбуждений. Конечно, слово
<самодеятельность> требует здесь некоторого ограничения. Нельзя себе
представить таких действий души, которые бы не были вызваны внешними условиями,
хотя, с другой стороны, нет и таких, которые бы вполне объяснялись посторонними
влияниями. В последнем смысле даже хаотическое состояние восприятий и свойства
каждого из них порознь - творчество души; в первом - даже самосознание и
свобода воли - явления зависимые и несвободные. Однако есть основание видеть более
самодеятельности там, где внешние причины не прямо, а только посредством ряда
состояний самого существа вызывают такое, а не другое его движение.
Соединение
впечатлений в образы, принимаемые нами за предметы, существующие независимо от
нас и без нашего участия, это соединение есть уже дело нашей души, впрочем не
отличающее ее от души животного.
Положим,
что зрение в первый раз дает человеку впечатления дерева на голубом поле неба.
Небо и дерево составляли бы для него одно разноцветное пространство, один
предмет, и навсегда остались бы одним предметом, если бы при повторении тех же
восприятий не изменялся фон, например, не шаталось дерево от ветра, не
заволакивалось небо облаками. Так как все это бывает, то восприятия
впечатлений, производимых на глаз деревом, повторяясь каждый раз без заметных
изменений или с небольшими, сливаются друг с другом, и при воспоминании
воспроизводятся всегда разом или в том же порядке, образуют для мысли
постоянную величину, один чувственный образ, а впечатления неба не сольются,
таким образом, и при воспроизведении будут переменной величиной.
В
одно время с впечатлениями зрения могут быть даны впечатления слуха и обоняния,
например, я могу, глядя на растение, слышать шум его листьев и чувствовать
запах его цветов; но впечатления осязания и вкуса не могут быть вполне
одновременны со впечатлением зрения, потому что я, ощупывая предмет, скрываю от
глаз обращенную ко мне часть его поверхности и совсем не вижу предмета, который
у меня во рту. Самое зрение одновременно представляет нам только то, что разом
обхватывается глазом; но вместе с этим глаз и переходит к одной части
поверхности, оставляя другую. В таких случаях
к одновременности восприятия, как основанию ассоциации, присоединяется
непосредственная последовательность, так что, например, сначала одновременно
получаются впечатления точек, составляющих видимую поверхность тела, затем тело
осязается, чувствуется его вкус, запах, слышится звук его падения. При этом чувственный
образ предмета со многими признаками составится только тогда, когда (совокупность
этих признаков будет относиться ко всем другим, как в приведенном выше примере
выделения комплекса признаков из ряда однородных относятся постоянные
впечатления от дерева к переменчивым впечатлениям фона, на котором оно
обрисовывается. Противоположность постоянного и изменчивого, образуемая
слиянием однородных восприятий, здесь необходима, потому что без нее все
восприятия одновременные и последовательные составил') бы только один ряд,
который, пожалуй, можно бы назвать чувственным образом; они постоянно
находились бы в тем состоянии, в каком, вероятно, находятся в первое время
жизни ребенка.
Изолированный
ряд восприятий не всегда повторяется в том же порядке, хотя стихии его остаются
те же. Сначала, например, можно видеть горящие дрова, потом слышать их треск и
чувствовать теплоту, или же сначала слышать треск, а потом, уже приблизившись,
увидеть пламя и почувствовать теплоту. Это далеко не все равно, потому что
единство чувственного образа зависит не только от тождества оставляющих его
признаков, но и от легкости, с какой один признак воспроизводится за другим.
Если несколько раз да был ряд признаков одного образа в порядке a h с d е и
вслед за тем еще раз получится признак, то он легко вызовет в сознании все
следующие за ним; но если упомянутый ряд начнется с конца, то признак е сам по
себе или вовсе не произведет признаков d с и пр., или - гораздо медленнее. Слова
<Отче наш> напоминают нам всю молитву, но слово <лукавого> не
заставит нас воспроизводить ее навыворот (от нас избави и проч.) точно так, как
признак с не дает нам целого образа а, h. с, d, с. Хотя е могло повторяться столько
же раз, сколько и а, но это последнее, по своему влиянию на все остальные,
будто господствует над всем образом. Если бы основания ассоциации. положенные
рядом и, Ь, с- (в котором смежные члены ah. be теснее связаны, чем удаленные
друг от друга а и е ) при каждом повторении образа заменялись новыми (Ь а с, с а
Ь...), то так скачать, господство передних членов, например, а, над всеми
остальными было бы уничтожено к каждый мог бы с такой же быстротой
воспроизводить ЕСС остальные. На деле, однако, бывает иначе, и это зависит
сколько о'; того, что при восприятии нс исчерпываются все сочетания признаков
столько и от другой причины. В самом кругу изолированного образа при новых
воспри.1тиях одни черты выступают ярче от частого повторения, другие остаются в
тени. При слове «золото» нам приходит на мысль цвет, а вес, звук могут вовсе не
прийти, потому что не всякий раз при виде
золота мы взвешивали его и слышали его звук. Образование такого же центра в
изолированном кругу восприятий мы можем предложить и до языка. В чем же после
этого будет состоять излишек силы творчества человеческой души, создающей язык,
сравнительно с силой животного, знающего только нечленораздельные крики, или
вовсе лишенного голоса? Ответ на это был уже отчасти заключен в предшествующем.
Внутренняя
форма есть тоже центр образа, один из его признаков, преобладающий над всеми
остальными. Это очевидно во всех словах позднейшего образования с ясно
определенным этимологическим значением
(бык - ревущий, волк - режущий, медведь - едящий мед, пчела - жужжащая и пр.),
но не встречает, кажется, противоречия и в словах ономато-поэтических потому,
что чувство, вызвавшее звук, есть такая же стихия образа, как устранимый от
содержания колорит есть стихия картины. Признак, выраженный словом, легко
упрочивает свое преобладание над всеми остальными, потому что воспроизводится
при всяком новом восприятии, даже ке заключаясь в этом последнем, тогда как из
остальных признаков образа многие могут лишь изредка возвращаться в сознание.
Но этого мало. Слово с самого своего рождения есть для говорящего средство
понимать себя, апперципировать свои восприятия. Внутренняя форма, кроме фактического
единства образа, дает еще знание этого единства; она есть не образ предмета, а
образ образа, т.е. представление.
Конечно,
знание того, что происходит в душе, и притом такое несовершенное знание,
сводящее всю совокупность признаков к одному, может показаться весьма малым
преимуществом человека, хотя, сравнительно с бессознательным собиранием
признаков в один круг, - это знание есть самодеятельность по преимуществу; но
можно думать, что, именно только как представление, образ получает для человека
тот высокий интерес, какого не имеет для животного, и что только представление
вызывает дальнейшие, исключительно человеческие преобразования чувственного
образа.
Прежде
чем говорить о влиянии представления на чувственный образ, следует прибавить еще
одну черту к сказанному выше об апперцепции: ее отличие от простой ассоциации,
с одной стороны, и слияние - с другой, и ее постоянная двучленность указывает
на ее тождество с формой мысли, называемой суждением. Апперцепции <Человек
стремится придать предметам, действующим на него множеством своих признаков,
определенное единство, для выражения коего [urn ihre (disser Einheit) Slelle zu
vertreten] требуется внешнее, звуковое единство слова. Звук не вытесняет ни одного
из остальных впечатлений, производимых предметом, а становится их сосудом (wird
lhr Trgger) и своим индивидуальным свойством, соответствующим свойствам предмета,
в том виде, как этот предмет был воспринят личным чувством всякого, прибавляет
к упомянутым впечатлениям новое, характеризующее предмет> (HuJ-nb.Veb. die Versch. 52). Это новое прибавляемое к предмету словом, есть
не представление, а скорее то, что мы выше назвали внутренней формой звука.
Подлежащее
объяснению есть субъект суждения, апперципирующее и определяющее - его предикат.
Если, исключив ассоциацию и слияние, как простейшие явления душевного
механизма, назовем апперцепцию, которая кажется уже не страдательным восприятием
впечатлений, а самодеятельным их толкованием, назовем ее первым актом мышления
в тесном смысле, то тем самым за основную форму мысли признаем суждение.
Впрочем, от такой перемены названий было бы мало проку, если бы она не вела к одному
важному свойству слова.
Представление
есть известное содержание нашей мысли, но оно имеет значение не само по себе, а
только как форма, в какой чувственный образ входит в сознание; оно - только
указание на этот образ, и вне связи с ним, т.е. вне суждения, не имеет смысла.
Но представление возможно только в слове, а потому слово, независимо от своего
сочетания с другими, взятое отдельно в живой речи, есть выражение суждения,
двучленная величина, состоящая из образа и его представления. Если, например,
при восприятии движения воздуха человек кажет: <ветер!>, то это одно
слово может быть объяснено целым предложением: это (чувственное восприятие
ветра) есть то (т.е.
тот
прежний чувственный образ), что мне представляется веющим (представление
прежнего чувственного образа). Новое апперципируемое восприятие будет
субъектом, а представление, которое одно только выражается словом, - будет
заменой действительного предиката.
При
понимании говорящего значение членов суждения переменится: услышанное от
другого слова бу вызовет в сознании воспоминание о таком же звуке, который
прежде издавался самим слушающим, а через этот звук - его внутреннюю форму,
т.е. представление, и, наконец, самый чувственный образ быка. Представление
останется здесь предикатом только тогда, когда слушающий сам повторит только
что услышанное слово. Впрочем, такое повторение неизбежно в малоразвитом
человеке. <Человеку, - говорит Гумбольдт, - зарождено высказывать только что
услышанное>, и, без сомнения, молчать понимая труднее, чем давать вольный
выход движению своей мысли.
Так,
дети и вообще малограмотные люди не могут читать про себя: им нужно слышать
результат своей умственной работы, будет ли она состоять в простом переложении
письменных знаков в звуки, или же и в понимании читанного. Непосредственно
истинным и действительным на первых порах кажется человеку только ощутимое
чувствами, и слово имеет для него всю прелесть дела.
Дитя
сначала говорит только отрывистыми словами, и каждое из этих слов, близких к
междометиям, указывает ка совершившийся в нем процесс апперцепции, на то, что
оно или признает новое восприятие заодно с прежним, узнает знакомый предмет (ляля!
мама!), или сознает в слове образ желаемого предмета (папа, т.е. хлеба). И
взрослые говорят отдельными словами, когда поражены новыми впечатлениями,
вообще когда руководятся чувством и неспособны к более продолжительному самонаблюдению, какое предполагается связной
речью. Отсюда можно заключить, что для первобытного человека весь язык состоял
из предложений с выраженным в слове одним только сказуемым. Опасно, однако,
упускать из виду мысль Гумбольдта, что не следует приурочивать термины
ближайших к нам и наиболее развитых языков (напр., сказуемое) к языкам далеким
от нашего по своему строению. Мысль эта покажется пошлой тому , кто сравнит ее
с советом не делать анахронизмов в истории, но поразит своей глубиной того, кто
знает, как много еще теперь (не говоря уже о 20-х годах)
филологов-специалистов, которые не могут понять, как может быть язык без
глагола. Говорят обыкновенно, что <первое слово есть уже предложение>.
Это справедливо в том смысле, что первое слово имело уже смысл, что оно не
могло существовать в живой речи в том виде, составляющем уже результат научного
анализа, в каком встречается в словаре; но совершенно ошибочно думать, что предложение
сразу явилось таким, каково в наших языках.
Язык
есть средство понимать самого себя. Понимать себя можно в разной мере; чего я в
себе не замечаю, то для меня не существует и конечно не будет мной выражено в
слове. Поэтому никто не имеет права влагать в язык народа того, чего сам этот
народ в своем языке не находит. Для нас предложение немыслимо без подлежащего и
сказуемого; определяемое с определительным, дополняемое с дополнительным не составляют
для нас предложения.
Но
подлежащее может быть только в именительном падеже, а сказуемое невозможно без
глагола (verbum finitum); мы можем не выражать этого глагола, но мы чувствуем
его присутствие, мы различаем сказательное (предикативное) отношение
("бумага бела") от определительного ("белая бумага"). Если
б мы не различали частей речи, то тем самым мы бы не находили разницы между
отношениями подлежащего и сказуемого, определяемого и определения, дополняемого
и дополнения, то есть предложение для нас бы не существовало. Очевидно, дитя и первобытный
человек не могут иметь в своем языке предложения уже потому, что не знают ни
падежей, ни лиц глагола, что говорят только отдельными словами. Но эти слова,
сказал Беккер, - глаголы, сказуемые, существенная часть предложения. Это
неверно: <цаца!>, <ляля!>, <папа!> названия не действий, а
предметов, узнаваемых ребенком; в этих словах может слышаться требование, и в
таком случае они скорее могли бы быть переведены нашими дополнительными.
<Если
представить себе, - говорит Гумбольдт, - создание языка постепенным (а это
естественнее всего), то нужно будет принять, что это создание, подобно всякому
рождению (Entstehung) в природе, происходит поначалу развития изнутри>^ Чувство,
проявлявшееся в звуке, заключает в себе все в зародыше, ' <So muss man ihr (dcr Sprache) cin Evolutionssystem unterlegen>.
но
не все в то же время видно в звуке'. Разумеется, если знаем, что содержание
мысли, обозначаемой языком, идет от большого числа отдельных чувственных
восприятий и образов, а звуки языка - от многих рефлексий чувства, то не станем
думать, что язык вылупился из одного корня, как, по индийскому мифу, вселенная
из яйца, но согласимся, что каждое первобытное слово представляло только
возможность позднейшего развития известного рода значений и грамматических
категорий. Удерживая разницу между организмом, имеющим самостоятельное
существование, и словом, которое живет только в устах человека, можем
воспользоваться сравнением первобытного слова с зародышем: как зерно растения
не есть ни лист, ни цвет, ни плод, ни все это взятое вместе, так слово вначале
лишено еще всяких формальных определений и не есть ни существительное, ни
прилагательное, ни глагол.
<Деятельности,
- говорит Штейнталь, - лежащие в основании существительных, не глаголы, а
прилагательные, названия признаков. Признак есть атрибут, посредством коего
инстинктивное самосознание понимает (erfasst) чувственный образ, как единицу, и
представляет себе этот образ. Как ум наш не постигает предмета в его сущности,
так и язык не имеет собственных, первоначальных существительных и как сочетание
признаков принимается нами за самый предмет, так и в языке есть только название
признаков>.
Действительно
предметы называются в языке каждый по одной из примет, взятой из совокупности
остальных: река - текущая (кор. рик, скр. рич, течь, или что кажется вероятнее,
ри, то же, что в малорусск, ринуть и нем. rinen ), берег - охраняющий,
берегущий (серб. Bpujer, холм, следоват. почти то же, что немецкое Berg, которое,
по Гримму, - от значения, сохранившегося в bergen, скрывать, охранять, наше
беречь), или, согласно с постоянным эпитетом
- крутой, обрывистый (ср.:
греч. <ррау - vofil д = греч. <р), небо - покрывающее, туча -
изливающая, трава. - пожираемая, служащая кормом и т.д. Само собой бросается в
глаза, что все эти признаки предполагают название деятельности: нужно было
иметь слово тру (-ти) для деятельности пожиранья, чтобы им обозначить траву,
как снедь. Но и в основании названия деятельностей лежат тоже признаки.
<Деятельность рассматривается совершенно как субстанция; не сама она по
себе, а впечатление, производимое ею на душу, отражается в звуке. И деятельность
имеет много признаков, из коих один замещает все остальные и получает потом
значение самой деятельности. Таким образом, первые слова - названия признаков,
и, стало быть, если захотим употребить грамматический термин, - наречия >.
Но
мы этого не хотим, и как Штейнталю очень хорошо известно, не имеем права.
Представление есть точно один из многих признаков, сложившихся в одно целое, но
слово в начале развития мысли не имеет еще для мысли значения качества и может
быть только указанием на чувственный образ, в котором нет ни действия, ни
качества, ни предмета, взятых отдельно, но все это в нераздельном единстве.
Нельзя,
например, видеть движения, покоя, белизны самих по себе, потому что они
представляются только в предметах, в птице, которая летит или сидит, в белом
камне и проч.; точно так нельзя видеть и предмета без известных признаков.
Образование глагола, имени и пр. есть уже такое разложение и видоизменение
чувственного образа, которое предполагает другие, более простые явления,
следующие за созданием слова. Так, например, части речи возможны только в предложении,
в сочетании слов, которого не предполагаем в начале языка; существование
прилагательного и глагола возможно только после того, как сознание отделит от
более-менее случайных атрибутов то неизменное зерно вещи, сущность, субстанцию,
то нечто, которое человек думает видеть за сочетанием признаков и которое не дается
этим сочетанием. Мы оставим в стороне вопрос об образовании грамматических
категорий, входящий в область истории отдельных языков, и ограничимся немногими
замечаниями о свойствах слова, которые предполагаются всяким языком и должны
служить дополнением к сказанному выше о слове, как средстве сознания единства образа.
Уже
в прошлом столетии замечено было, что слово имеет ближайшее отношение к
обобщению чувственных восприятий и что в бессловесности животных следует искать
объяснения, почему им недоступны ни общие идеи (во французском, самом общем
смысле этого слова), ни зависимая от них усовершимость человека. Впрочем и
тогда, и теперь весьма многими значение языка для развития мысли понимается
очень неудовлетворительно, например, таким образом: <Язык служит пособием
при отвлечении, потому что он обозначает только отвлеченное и должен обозначать
только это; в противном случае он был бы бесполезен, так как число слов было бы
не меньше числа восприятий>. Слово принимается здесь, как знак готовой
мысли, а не как ее орган, не как средство добывать ее из рудников своей души и
придавать ей высшую цену. Без ответа остаются также вопросы: составляет ли
отвлеченное исключительную принадлежность человека, и если нет, то какой
особенный смысл придает слово человеческому отвлечению? Образование в душе восприятий, преобладающих
над другими, и связанное с этим бессознательное объединение чувственного об-
'
Указания на основные различия грамматики языков можно найти в сочинении Штейнталя
Charakterislik der hauptsachlichslen Typen des Sprachbaues. Bei'l.
1860.
раза
всегда предполагает устранение из сознания значительного числа впечатлений,
которые мы назвали фоном чувственного образа, и есть первообраз позднейшего
процесса отвлечения или абстракции. Не трудно найти доказательства, что
чувственный образ, на котором мы сосредоточились, который мы выделили из всего
прочего, заключает в себе далеко не все черты, переданные нам чувствами, точно
так, как портрет отсутствующего лица, написанный по одному воспоминанию,
изображает далеко не все особенности лица, действовавшие некогда на глаза и
бывшие в сознании живописца. Бессознательное слияние нескольких образов,
полученных в разное время, в один было бы совершенно невозможно, если бы эти
образы, всегда сложные, удерживались душой в одинаковой полноте, а не постоянно
разлагались посредством отпадения отдельных частей, несвязанных для нас
известными отношениями. Это слияние, встречающее тем меньше препятствий, чем
меньше особенностей образов удержалось в памяти, есть уже обобщение.
Совокупность мыслимого мной во время и после такого слияния, даже без моего
ведома, относится уже не к одному предмету, а к нескольким, и тем самым
превращается в более-менее неопределенную схему предметов. Подобные схемы
необходимо предположить в животном, многие действия коего не могут быть
объяснены одними физиологическими побуждениями. Собака лает на нищего и не лает
на человека, одетого как ее господин, например, в студенческое платье; не
обнаруживает ли она этим, что в ней составилось две схемы людей, различно
одетых, - схемы, не заключающие в себе частных отличий, и что новые
впечатления, относясь то к одной, то к другой из этих схем, лишаются на время
своих особенностей, которые, однако, по всей вероятности остаются в душе? Если
животное узнает привычную пищу, избегает знакомой опасности, если оно вообще способно
не только руководиться указаниями инстинкта, но и пользоваться своей
опытностью, в чем не может быть сомнения, то это дается ему только способностью
обобщать чувственные данные. Минуя слово <обобщение>, с которым многие не
без основания соединяют мысль об исключительно человеческой деятельности души,
мы можем выразить это и таким образом: то, что мы обозначаем отрицательно
отсутствием способности целиком и без изменений удерживать сложившиеся в душе сочетания
восприятий, есть положительное свойство души, необходимое в экономии и
человеческой и животной жизни.
Умственная
жизнь человека, до появления в нем самосознания, нам так .же темна, как и
душевная жизнь животного, и потому мы всегда принуждены будем ограничиться
только догадками о несомненно существующих родовых различиях между
первоначальными обнаружениями этой жизни в человеке и в животном. Но
несомненно.что в то время, как животное не идет далее смутных очерков чувственного
образа, для человека эти очерки служат только основанием, исходной точкой
дальнейшего творчества, в бесчисленных произведениях коего, например, в
понятиях Бога, судьбы, случая, закона и пр., только научный анализ может
открыть следы чувственных восприятий. Понятно, что в человеке есть сила,
заставляющая его особенным, ему только свойственным образом, видоизменять впечатления
природы; легко также принять, что точка, на которой становится заметной
человечность этой силы, на которой обобщение получает неживотный характер, есть
появление языка; но что же именно прибавляет слово к чувственной схеме? Что бы
оно ни прибавляло, это нечто должно быть существенным условием позднейшего
совершенствования мысли, иначе сам язык будет не нужен.
Выше
мы назвали слово средством сознания единства чувственного образа; здесь мы
прибавим только, что слово есть в то же время и средство сознания общности
образа. Здесь, как и в других случаях, сознанию того, что уже существует, можем
приписать могущество пересоздавать это существующее, но не создавать его, не
творить из ничего. Человек не изобрел бы движения, если б оно не было без его
ведома дано ему природой, не построил бы жилья, если б не нашел его готовым,
под сенью дерева или в пещере, не сложил бы песни, поэмы, если б каждое слово
не было, как увидим ниже, поэтическим произведением; точно так слово не дало бы
общности, если б ее не было бы до слова. Тем не менее есть огромное расстояние
между непроизвольным движением и балетом, лесом и колоннадой храма, словом и
эпопеей, равно как и между общностью образа до слова и отвлеченностью мысли,
достигаемой посредством языка.
Нам
кажется верным, что если неговорящее дитя узнает свою мать и радостно тянется к
ней, то оно имеет уже, так сказать, отвлеченный ее образ, т.е. такой, который
хотя и относится к одному предмету, но не заключает в себе несходных черт,
данных в разновременных восприятиях этого предмета (напр., мать могла быть в
разное время в разных платьях, могла стоять, ходить, сидеть, когда смотрел на
нее ребенок). Присоединим к этому слово. Дитя разные восприятия матери называет
одним и тем же словом мама,' восприятия одной и той же собаки, но в разных
положениях, и разных собак, различных по шерсти, величине, формам, вызывают в
нем одно и то же слово, положим, цюця '.
Новые
апперципируемые восприятия будут переменчивыми субъектами, коих предикат
остается настолько неизменным, что Предполагаем,
что это слова первобытные, ономато-поэтические и лишенные еще всяких
грамматических определений; но это, собственно, фикция, потому что, напр.,
слово цюця носит на себе следы многих внутренних и внешних изменений. Оно, во-первых,
существительное, подобно всем остальным в наших языках имеющее чисто формальное
окончание; во-вторых, имеет удвоение, которого нельзя предполагать в корне (
кор. вероятно ку. Ср. греч. xv ~ ип>, лит. szu, лат. ca-nis отлично но
гласной) и по звукам гармонирует с малорусским нар., относительно поздним.
рано
или поздно заметит, что среди волнения входящих в его сознание восприятий, из
коих каждая группа или лишена известных стихий, находящихся в другой, или имеет
в себе такие, каких не заключает в себе другая, остается неподвижным только
звук и соединенное с ним представление, и что, между тем, слово относится
одинаково ко всем однородным восприятиям. Таким образом полагается начало
созданию категории субстанции, вещи самой по себе, и делается шаг к познанию
истины. Действительное знание для человека есть только знание сущности;
разнообразные признаки а, Ь, с, d, замечаемые в предмете, не составляют самого
предмета А, ни взятые порознь (потому что, очевидно, цвет шерсти собаки и пр.
не есть еще собака), ни в своей совокупности, во-первых, потому, что эта совокупность
есть сумма, множественность, а предмет есть для нас всегда единство; во-вторых,
потому, что А, как предмет, должно для нас заключать в себе не только сумму
известных нам признаков а + b+ с, но и возможность неизвестных х + у..., должно
быть чем-то отличным от своих признаков, и между тем объединяющим их и условливающим
их существование. В слове, как представлении единства, и общности образа, как
замене случайных и изменчивых сочетаний, составляющих образ, постоянным
представлением (которое, припомним, в первобытном слове не есть ни действие, ни
качество) человек впервые приходит к сознанию ^ытия темного зерна предмета, к
знанию действительного предмета.
При
этом следует помнить, что, конечно, такое значение не есть истина, но указывает
на существование истины где-то вдали, и что вообще человека характеризует нс
знание истины, а стремление, любовь к ней, убеждение в ее бытии.
Апперципируя
в слове восприятие, вновь появившееся в сознании, и произнося только одно
слово, имеющее значение предиката, человек уничтожает первоначальное
безразличие членов апперцепции, особенным образом оттеняет важнейший из этих
членов, именно предикат, делая его вторично предметом своей мысли.
Чтобы
видеть, чего недостает такому неполному господству языка, в чем несовершенство
мысли, которая высказывается только отрывистым словом, довольно сравнить такое
единичное живое слово с сочетанием слов. <ЦюцЛ> значит: вновь входящий в
мое сознание образ есть для меня та сущность, которую я таким-то образом
(посредством такой-то внутренней формы) представляю в слове цюця.' предмет сам
по себе еще не отделен здесь от своих свойств и действий, потому 410 эти
последние заключаются и в <Как без
языка, - говорит Гумбольдт, - невозможно понятие, так без него нс было бы для
души и предмета, потому что и всякий внешний предмет только посредством понятия
получает полную существенность>.
Мы
прибавим, что понятие развивается только то, что дано уже до него.
новом
восприятии и в апперципирующем его образе. Не то уже в сложном речении
первобытного языка, соответствующем нашему <собака лает>; здесь не только
в слове сознана сущность собаки, но и явственно выделен один из признаков,
темной массой облегающих эту сущность. Если отдельное слово в речи есть
представление, то сочетание двух слов можно бы, следуя Штейнталю, назвать представлением
представления; если одинокое представление было первым актом разложения
чувственного образа, то фраза из двух слов будет вторым, построенным уже на
первом. Это можно видеть из того, что атрибут, сознанный посредством слова, в
свою очередь получает субстанциальность и может стать средоточением круга атрибутов,
так что, например, только тогда, когда со словом, объединяющим весь круг
признаков образа собаки, соединится другое слово, обозначающее только один из
этих признаков (собака лает), только тогда и в самом признаке лая могут
открыться свои признаки. Но каким образом слово из предиката становится
субъектом, из обозначения всей совокупности признаков посредством одного
обозначением одного только признака? На это не находим у Штейнталя
удовлетворительного ответа. Он говорит только, что наступает пора, когда слово,
бывшее до того предикатом, <становится субъектом изменчивых признаков,
которые получают силу предикатов. Только тогда слово (как субъект) получает
значение субстанции предмета, и предмет отделяется от своих деятельностей и свойств.
Тогда и восприятия (die Wahrnehmungen) этих изменчивых свойств и деятельностей
возбуждают интерес детской души и рефлектируются в звуках>.
Он
говорит вслед за тем, что первобытный человек создает такие звуки; но это
невозможно: по его собственной теории, как мы ее понимаем, слово может быть
первоначально только полным безразличием деятельности к качества, с одной, и
предмета - с другой стороны, но никак не обозначение качества или действия самих
по себе; не может быть прямого перехода от такой простой апперцепции, как, например (это, т.е. новое
восприятие есть), <мама!> к такой, где <мама> есть уже субъект
предиката, означающего отвлеченное действие или качество. Нам, стоящим на
степени развития своего языка, весьма трудно, говоря о далеком прошедшем, отделаться
от того, что внесено в нашу мысль этим языком. Если даже из сказуемого
<идет> отделим все формальные определения, делающие из него третье лицо
глагола настоящего времени, и оставим одно только коренное и, то и тогда нам
будет казаться, что это и не обнаруживает особенного сродства ни с одним кругом
восприятий и безразлично указывает на свойство или действие, которое может одинаково встретиться во всяком
из них, что поэтому уже при самом своем рождении оно было результатом слияния восприятий
движения, взятых из разных чувственных образов. Это так кажется потому, что к
самому началу языка мы относим ту всестороннюю связь языка между его корнями,
которая на деле может быть только следствием продолжительных усилий мысли.
Можно,
однако, если не ошибаемся, сделать некоторые поправки в этом взгляде и указать
приблизительно на то значение, какое имело первоначальное соединение двух слов.
Обыкновенно
отличают суждения аналитические от синтетических. В первых предикат есть только
явственное повторение момента, скрытого в субъекте, так что все суждение
представляется разложением одной мысленной единицы, например, <вода
бежит>, <золото желто>, т.е. вода + теченье, золото + желтизна даны
уже в неразрешенном суждении чувственном образе воды, золота; во-вторых,
предикат по отношению к субъекту есть нечто новое, немыслимое непосредственно в
этом последнем, но связанное с ним посредствующим рядом мыслей, например,
<сумма углов в треугольнике равна двум прямым> или <часы похожи на
людей> (где между соединяемыми членами часы + сходство с людьми есть среднее,
например, и часы, и люди летом ходят медленнее, чем зимой). Не думая
изглаживать разницу между этими суждениями, можно заметить, что даже в строго
синтетических суждениях, в коих соединение членов есть следствие умозаключения,
можно видеть разложение одного круга мыслей, потому что должна же в самом
субъекте заключаться причина, почему он требует именно такого предиката и,
наоборот, предикат должен указывать на необходимость соединения с тем, а не
другим субъектом. Если прибавим к этому, что синтетическое суждение, как
предполагающее более усилий ума, должно появиться позже, что должно было быть
время исключительного господства аналитических суждений из непосредственно
чувственного восприятия, то согласимся, что вообще предложения и суждения не
сложены из двух представлений или понятий, но чувственный образ, следовательно
единство, есть первое, а суждение есть уже разложение этого единства. Однако, с
точки языка нужно прибавить, что такое разложение чувственного образа может
осуществиться только посредством соединения его с другой подобной единицей, так
что в суждении, насколько оно выражено сочетанием не менее двух слов, можно
видеть не только разложение единицы, но и появление единства из двойственности.
Отношение
этого к вопросу о первоначальном значении предложения поясним немногими
примерами. Предположим, что слово вода есть привычное сказуемое для входящих в
сознание и требующих апперцепции чувственных восприятий воды, сказуемое,
которое не означает еще исключительно предмета, но представляет сознанию весь
чувственный образ воды посредством признака течь (ср. лат. Ud-us, мокрый,
влажный, греч. ид = ор и русск, собственное имя реки Уди!). Последовательно
будет принять, что л наши слова светить, светлый, очищенные от формальных
частиц ' возведенные к первобытной форме, означали определенный обрад, как
безразличную совокупность субстанции и атрибутов, посредством признака светить.
В первообразе предложения <вод<а) светила)> составные части еще нс
теряют свойств, принадлежавших им, когда "iiw употреблялись только
порознь. Если в новом восприятии воды: глаз поражен ее прозрачностью или
отражением в ней .-ол печного сесга, то это восприятие сначала все же
апперципируете" словом вода (причем произойдет суждение, соответствующее
нашему: (это) вода!), но вслед за тем вызовет в сознание совершенно другой
образ и вторично апперципируется связаннкм с этим i.oc'-едним словом свет (ла).
0бозначкви'и новое восприятие через х.первое входящее в сознание слово через а,
второе через /i, можем выразить весь процесс таким образом: х = а "' Ь; чо
х не вь-ражасгся елевом и не сознается, а потому для сознания остается только а
= Ь. Смысл предложения бучет: представлчемое мн.)й в C.'OBC вода действует на меня
так или есть для меня то, что представляемое мьой ч слове свет (ла). Точно так
слово зеленьи. в старину ic только имело' менее определенное значение, чем то,
какое мы придаем ему теперь, не только означало светлый цвет вообще, но и без
сомнения явственно обнаруживало связь с определенным чуиственным образом
светлого предмета, хотя нельзя сказать, с калим имени'). Чувственный образ
звука, цвета есть сам J себе противоречче. потому что мы видим не один цвет, а
цветной предмет, м даже звук, которого действительный источник может от нас
скрыват^я, мы приурочиваем к тому предмету, со стороны коего он слышен.
Названия
некоторых цветов еще и теперь явственно указывают на чувственные образы, из
коих они выделены: как голубой есть цвет голубя, соловой - соловья, поль,
niebifrkl - цвет неб-, так и зеленый сначала мыслилось не отделы-о, как
качество, а в чувственном образе, который обнимал предмет, действие v. качество
и обозначался, положим, словом гар или гр. (ср. малор гpw^ьц'!, зеленый, и
обычный переход г в з, р а л). Когда это '.лово соединилось со словом трава
(внутренняя форма коего, чидная в корне тру= (ти), есть, жрать, откуда о^тру=та
и o---w^.<^=a). то тем самым созналось и отношение двух до того оаздельных
чувственных образов, и предложение <трава зелена> значило: <то, что я
представляю снедью значит для меня то, что я представляю С&'ГР_№Ш>. Мы
не можем себе представить первоначального 1;р-гд.'о*>с;'.и1 ^'шЧ!:, как в
виде явственного для говорящего сравнения двух самостоятельно сложившихся
чувственных образов, к по этом', повел'.' .<апомним сделанное выше определение слова вообще, как
средства апперцепции или, что то же, средства сравнения. В языке нет
собственных выражений, и чем более точному анализу подвергнем мы слово, тем более
сходства обнаружит оно с символическими выражениями позднейшей народной поэзии,
с той, конечно, разницей, что последние в общей массе будут гораздо сложнее и
отвлеченнее первобытных искомых речений.
Согласившись
видеть сравнения в первобытных предложениях, вместе с тем мы должны будем
принять их несовершенство и недостаточность для целой мысли. Как бы ни было
прекрасно сравнение, но оно заставляет нас думать о многом, что вовсе не
составляет необходимой принадлежности мыслимого субъекта, оно нас развлекает
или, лучше сказать, само есть отсутствие той сосредоточенности, без которой нет
строгого мышления. Положим, что сравнение старых супругов с двумя пнями без
отпрысков (срб. <Као два oдejeнa паня>) говорит нам о сиротстве,
бездетности; но этот предикат непосредственно присоединяется к субъекту и
заставляет нас перейти от человека к дереву, жизнь которого в сущности
совершенно отлична от человеческой, присоединяет к мысли о бездетной старости
человека много такого, что, с нашей точки, не должно бы заключаться в этой
мысли. То же следует сказать о первоначальном значении предложений <вода
светла>, <трава зелена>: они еще слишком напоминали случайную
ассоциацию восприятий, хотя уже не были ею в действительности. Ответ на
возникающий отсюда вопрос о средствах, какими мысль достигает той степени
отвлеченности, которая дает нам возможность принимать сравнения за собственные
выражения и непосредственно, не думая о постороннем, находит в субъекте
известные признаки; ответ на это найдется, если сообразим следующее. Сказуемое
в предложении <трава зелена>, рассматриваемое отдельно от подлежащего,
есть для нас не цвет известного предмета, а зеленый цвет вообще, потому что мы
забыли и внутреннюю форму этого слова, и тот определенный круг признаков (образ),
который доводился ею до сознания; точно так и подлежащее трава дает нам
возможность без всяких фигур присоединить к нему известное сказуемое, потому
что для нас это слово обозначает не <служащее в пищу>, а траву вообще,
как субстанцию, готовую принять всякий атрибут. Такое забвение внутренней формы
может быть удовлетворительно выведено из многократного повторения процесса соединения
слов в двучленные единицы. Чем с большим количеством различных подлежащих
соединялось сказуемое зеленый, тем более терялись в массе других признаки
образа, первоначально с ним связанного. Способность забвения и здесь, как при
объединении чувственного образа до появления слова, является средством оттенить
и выдвинуть вперед известные черты восприятий. Но оставляемое таким образом в тени
не пропадает даром, потому что, с другой стороны, чем больше различных
сказуемых перебывало при слове трава, тем на большее количество суждений
разложился до того нераздельный образ травы.
Субстанция
травы, очищаясь от всего постороннего, вместе с тем обогащается атрибутами.
Всякое
суждение есть акт апперцепции, толкования, познания, так что совокупность
суждений, на которые разложился чувственный образ, можем назвать аналитическим
познанием образа. Такая совокупность есть понятие.
Потому
же, почему разложение чувственного образа невозможно без слова, необходимо
принять и необходимость слова для понятия. Мы еще раз приведем относящееся сюда
место Гумбольдта, где теперь легко будет заметить важную черту, дополняющую
только что"сказанное о понятии. <Интеллектуальная деятельность, вполне
духовная и внутренняя, проходящая некоторым образом бесследно, в звуке речи
становится чем-то внешним и ощутимым для слуха... Она (эта деятельность) и сама
по себе (независимо от принимаемого здесь Гумбольдтом тождества с языком)
заключает в себе необходимость соединения со звуком: без этого мысль не может
достигнуть ясности, представление (т.е. по принятой нами терминологии,
чувственный образ) не может стать понятием.
Здесь
признается тождественность ясности мысли и понятия, и это верно, потому что
образ, как безымянный конгломерат отдельных актов души, не существует для
самосознания и уясняется только по мере того, как мы раздробляем его, превращая
посредством слова в суждения, совокупность коих составляет понятие. Значение
слова при этом условливается его чувственностью. В ряду суждений, развивающемся
из образа, последующие возможны только тогда, когда предшествующие
объективированы в слове. Так, шахматному игроку нужно видеть перед собой доску,
с расположенными на ней фигурами, чтобы делать ходы, сообразные с положением
игры: как для него сначала смутный и шаткий план уясняется по мере своего
осуществления, так для мыслящего - мысль по мере того, как выступает ее
пластическая сторона в слове и вместе, как разматывается ее клубок. Можно
играть и не глядя на доску, причем непосредственное чувственное восприятие
доски и шашек заменяется воспоминанием; явление это только потому принадлежит к
довольно редким, что такое крайне специализированное мышление, как шахматная
игра, лишь для немногих есть дело жизни.
Подобным
образом можно думать без слов, ограничиваясь только более-менее явственными
указаниями на них или же прямо на самое содержание мыслимого, и такое мышление
встречается гораздо чаще (напр., в науках, отчасти заменяющих слова формулами),
именно вследствие своей большей важности и связи со многими сторонами
человеческой жизни. Не следует, однако, забывать, что умение думать по-человечески,
но без слов, дается только словом, и что глухонемой без говорящих или выученных говорящими учителями,
век оставался бы почти животным.
С
ясностью мысли, характеризующей понятие, связано другое его свойство, именно
то, что только понятие (а вместе с тем и слово, как необходимое его условие)
вносит идею законности, необходимости, порядка в тот мир, которым человек
окружает себя и который ему суждено принимать за действительный. Если уже,
говоря о человеческой чувственности, мы видели в ней стремление, объективно
оценивая восприятия, искать в них самих внутренней законности, строить из них систему,
в которой отношения членов столь же необходимы, как и члены сами по себе; то
это было только признанием невозможности иначе отличить эту чувственность от
чувственности животных. На деле упомянутое стремление становится заметным
только в слове и развивается в понятии. До сих пор форму влияния предшествующих
мыслей на последующие мы одинаково могли называть суждением, апперцепцией, связывала
ли эта последняя образы или представления и понятия; но принимая бытие
познания, исключительно свойственного человеку, мы тем самым отличали известный
род апперцепции от простого отнесения нового восприятия к сложившейся прежде
схеме. Здесь только яснее скажем, что собственно человеческая апперцепция,
суждение представления и понятия, отличается от животной тем, что рождает мысль
о необходимости соединения своих членов. Эта необходимость податлива: пред
лицом всякого нового сочетания, уничтожающего прежние, эти последние являются
заблуждением; но и то, что признано нами за ошибку, в свое время имело характер
необходимости, да и самое понятие о заблуждении возможно только в душе, которой
доступна его противоположность. Когда Филипп сказал Нафанаилу: <Мы нашли того,
о ком писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета>,
и когда Нафанаил отвечал ему: <Может ли что путнее быть из Назарета>, он,
как сам потом увидел, ошибался, но очень неполное понятие о человеке, родом из
Назарета, было для него готовой нормой, с которой необходимо должно было
сообразоваться все, что будет отнесено к ней впоследствии. Такие примеры на
каждом шагу в жизни.
Не
останавливаясь на таких однородных с упомянутым случаях, как употребление
руководящих нашим мнением понятий кацапа, хохла, цыгана, жида, Собакевича,
Манилова, мы заметим, что и там, где нет клички, нет ни явственной похвалы, ни
порицания, общее служит, однако/законом частному. Если известная пословица
<курица не птица, прапорщик не офицер> предполагает знание, какова должна
быть настоящая птица, настоящий офицер, то определяющее понятие или слово в
простом утверждении <это - птица> или <птица!> должно тоже содержать
в себе закон объясняемого, хотя в выражении <птица>, в котором один член
апперцепции - еще чувственное восприятие, не получившее обделки, необходимой
для дальнейших успехов мысли, этот закон - еще только в зародыше. Таким
законодательным схемам подчиняет человек и все свои действия. Произвол,
собственно говоря, воз можен только на деле, а не в мысли, не на словах,
которыми человек объясняет свои побуждения. Самодур, врасплох принужденный к
ответу, на чем он основывает свою дурь, скажет: <я так хочу>, отвергая
всякую меру своих действий, сошлется, однако, на свое я, как на закон. Но он
сам недоволен своим ответом и сделал его только потому, что не нашел другого.
Кажется трудным представить себе <sic volo>, сказанное не в шутку, но без
гнева. В недалеком от него, но более спокойном <такой уж у меня норов>,
слышится извинение и более явственное сознание необходимости, с какой из
известных нравственных качеств вытекают те, а не другие действия. Чаще произвол
ищет оправдания вне себя, в мысли, что <на том свет стоит> и т.п., при
чем ясно выступает сознание закона отдельных явлений. Как сами себя осуждаем за
<sic volo>, так вчуже то, для чего не можем приискать закона, что <ни
рак, ни рыба>, тем самым становится для нас достойным порицания.
Из
сказанного можно видеть, чего мы не предполагаем в соответствующих человеческим
формам душевной деятельности животных. Если собака обнаруживает радость при
стуке тарелок, или если отогнанная гуртовщиком скотина ревет, не встречая
знакомых предметов, если птица с криком кружится над разоренным гнездом, то в
первом случае произошло нечто вроде положительного суждения (новое восприятие
есть сумма прежних, т.е. сливается с ними), в двух других - нечто вроде
суждения отрицательного (новое не есть прежнее, т.е. не сливается со входящим в
сознание прежним). Но нигде нет внутреннего единства между членами сочетания,
потому что нигде один член не является законом, который бы управлял другим.
Внутреннее единство, противоположное механичности сочетания, тождественно для
нас с сознанием необходимости или случайности. Это единство сводится на
отношение между предметом и его признаком, субстанцией и атрибутом или акциденцией.
В животном мы потому же отрицаем сознание необходимости, почему не приписываем
ему вообще способности критически относиться к механическому течению своих
восприятий, почему не предполагаем в нем разложения чувственннх данных на
предметы и признаки.
Слово
не есть, как и следует из предыдущего, внешняя прибавка к готовой уже в
человеческой душе идее необходимости. Оно есть вытекающее из глубины
человеческой природы средство создавать эту идею, потому что только посредством
него происходит и разложение мысли. Как в слове впервые человек сознает свою
мысль, так в нем же прежде всего он видит ту законность, которую потом
переносит на мир.
Мысль,
вскормленная словом, начинает относиться непосредственно к самим понятиям, в
них находит искомое знание, на слово же начинает смотреть как на посторонний и
произвольный знак, и представляет специальной науке искать необходимости в
целом здании языка и в каждом отдельном его камне.
Столь
же важную роль играет слово и относительно другого свойства мысли,
нераздельного с предшествующим, именно относительно стремления всему назначать
свое место в системе. Как необходимость достигает своего развития в понятии и
науке, исключающей из себя все случайное, так и наклонность систематизировать
удовлетворяется наукой, в которую не входит бессвязное. Путь науке уготовляется
словом.
<Нередко.
- говорит Лоне, - кажется, будто мы не вполне знаем известный предмет, свойства
коего мы исследовали со всех сторон, полный образ коего мы уже составили, если
не знаем его имени. По-видимому, только звук слова мгновенно рассевает эту
тьму, хотя этот звук ничего не прибавляет к содержанию, хотя далеко не всегда
слово объясняет предмет указанием его места в ряду других или в объеме высшего
понятия> (сочетания вроде наших: трость - дерево, кит - рыба, нем. Wallfisch,
Rennthjer - довольно редки ). <Ботанизирующей молодежи доставляет
удовольствие узнавать латинские названия растений>, или, чтобы взять более
знакомый нам пример, мы заботливо узнаем у ямщика имя встречной деревушки ^тя
i^i же н?.м дает, по-видимому, собственное имя? <Нам мало восприягия
предмета; чтобы иметь право на бытие, этот предмет должен 6ь'ть частью
расчлененной системы, кот? рая я'-1еет значение сама по себе, независимо от
нашего знания. Если мы не в силах действительно определить место, занимаемое
известным явлением в целом природы, то довольствуемся O"H>IM именем.
Имя свидетельствует нам, что внимание многих других покоилось уже на встреченном
нами предмете; оно ручается нам за то, что общий разум (Intelligenz), по
крайней мере, пытался уже и ^тому предмету назначить определенное место в
единстве более обширного целого. Если имя и не дает ничего нового, никаких
частностей предмета, то оно удовлетворяет человеческому стремлению постигать
объективное значение вещей, оно представляет незнакомое нам чем-то н.'
безызвестным общему мышлению человечества, но давно уже постановленным на свое
место.
Потому-то
произвольнодан1кх. нами имя не есть имя; недостаточно назвать вещь, как попало:
сна ,'::йствител,^но должна так называться, как мы ее зовем; имя должно быть
<.'вгщетельством, что вещь принята в мир общепризнанного и познанного и. как
прочно^ определение вещи, должно ненарушимо противостлять личному произволу>
, Все выписанное здесь кажется вполне справедливым и напоминает мысль ГумС
чьдта: <Sprechen heLsst sein besondercs Denken an (las aligemeine anknupfen,> говорить - значит связывать свою личную узкую
мысль с мышлением своего племени, народа, человечества. Нам остается только
прибавить, что только в ту пору, когда человеку стала более-менее доступна
научная система понятий, слово на самом деле вносит в мысль весьма мало; пер Lofze.
Mikr. II, 238-9.
воначально
же оно действительно дает новое содержание, указывая на отношения мыслимой
единицы к ряду других. В этом можно убедиться, например, из всякого разумного,
основанного на языке, мифологического исследования. В известные периоды живость
внутренней формы дает мысли возможность проникать в прозрачную глубину языка;
слово, обозначающее, положим, старость человека, своим сродством со словами для
дерева указывает на миф о происхождении людей из деревьев, по-своему связывает
человека и природу, вводит, следовательно, мыслимое при слове старость в
систему своеобразную, не соответствующую научной, но предполагаемую ею.
Указанные
до сих пор отношения понятия к слову сводятся к следующему: слово есть средство
образования понятия, и притом не внешнее, не такое, каковы изобретенные
человеком средства писать, рубить дрова и проч., а внушенное самой природой
человека и незаменимое; характеризующая понятие ясность ( раздельность
признаков), отношение субстанции к атрибуту, необходимость в их соединении,
стремление понятия занять место в системе - все это первоначально достигается в
слове и прообразуется им так, как рука прообразует всевозможные машины. С этой
стороны слово сходно с понятием, но здесь же видно и различие того и другого.
Понятие,
рассматриваемое психологически, т.е. не с одной только стороны своего
содержания, как в логике, но и со стороны формы своего появления в
действительности, одним словом - как деятельность, есть известное количество
суждений, следовательно не один акт мысли, а целый ряд их. Логическое понятие,
т.е. одновременная совокупность признаков, отличенная от агрегата признаков в
образе, есть фикция, впрочем совершенно необходимая для науки. Несмотря на свою
длительность, психологическое понятие имеет внутреннее единство. В некотором
смысле оно заимствует это единство от чувственного образа, потому что, конечно,
если бы например образ дерева не отделился от всего постороннего, которое воспринималось
вместе с ним, то и разложение его на суждения с общим субъектом было бы
невозможно; но как о единстве образа мы знаем только через представление и
слово, так и ряд суждений о предмете связывается для нас тем же словом. Слово
может, следовательно, одинаково выражать и чувственный образ, и понятие.
Впрочем человек, некоторое время пользовавшийся словом, разве только в очень
редких случаях будет разуметь под ним чувственный образ, обыкновенно же думает
при нем ряд отношений: легко представить себе, что слово солнце может
возбуждать одно только воспоминание о светлом солнечном круге; но не только астронома,
а и ребенка или дикаря оно заставляет мыслить ряд сравнений солнца с другими
приметами, т.е. понятие, более или менее совершенное, смотря по развитию
мыслящего, например, солнце - меньше (или же многим больше) земли; оно колесо
(или имеет сферическую форму); оно благодетельное или опасное для человека божество (или безжизненная материя,
вполне подчиненная механическим законам) и т.д. Мысль наша, по содержанию, есть
или образ, или понятие; третьего, среднего между тем и другим, нет; но на
пояснении слова понятием или образом мы останавливаемся только тогда, когда
особенно им заинтересованы, обыкновенно же ограничиваемся одним только словом.
Поэтому мысль со стороны формы, в какой она входит в сознание, может быть не только
образом или понятием, но и представлением или словом.
Отсюда
ясно отношение слова к понятию. Слово, будучи средством развития мысли,
изменения образа в понятие, само не составляет ее содержания. Если помнится
центральный признак образа, выражаемый словом, то он, как мы уже сказали, имеет
значение не сам по себе, а как знак, символ известного содержания; если вместе
с образованием понятия теряется внутренняя форма, как в большей части наших
слов, принимаемых за коренные, то слово становится чистым указанием на мысль,
между его звуком и содержанием не остается для сознания говорящего ничего среднего.
Представлять значит, следовательно, думать сложными рядами мыслей, не вводя почти
ничего из этих рядов в сознание. С этой стороны значение слова для душевной
жизни может быть сравнено с важностью буквенного обозначения численных величин
в математике, или со значением различных средств, заменяющих непосредственно
ценные предметы (напр., денег, векселей) для торговли. Если сравнить создание
мысли с приготовлением ткани', то слово будет ткацкий челнок, разом проводящий
уток в ряд нитей основы и заменяющий медленное плетенье. Поэтому несправедливо
было бы упрекать язык в том, что он замедляет течение нашей мысли. Нет
сомнения, что те действия нашей мысли, которые в мгновение своего совершения не
нуждаются в непосредственном пособии языка, происходят очень быстро. В
обстоятельствах, требующих немедленного соображения и действия, например, при
неожиданном вопросе, когда многое зависит от того, каков будет наш ответ,
человек до ответа в одно почти неделимое мгновение может без слов передумать
весьма многое.- Но язык не отнимает у человека этой способности, а лапротив,
если не дает, то по. крайней мере усиливает ее.
То,
что называют житейским, научным, ^литературным тактом, очевидно, предполагает
мысль о жизни, науке, литературе - мысль, которая не могла бы существовать без
слова. Если бы человеку
'Zwar ist's mil der Gedanken-FabriK, Wie mil e'inem Weber^.leisterst3ck,
Wo ein Tritt tausend Fifaen regt, Dip. Schiffiein herUber hinUber schiessen.
Die fiden ungrsehen fliessen, Ein Schlag tausend
Verbindungen sch!9gt (Faust) '
G.Steinthal. Zlir Sprachphilos. Zeitschrift von Fichte und Ulriri, XXXII, 197-201.
доступна
была только бессловесная быстрота решения, и если бы слово, как условие
совершенствования, было нераздельно с медленностью мысли, то все же эту
медленность следовало бы предпочесть быстроте. Но слово, раздробляя
одновременные акты души на последовательные ряды актов, в то же время служит
опорой врожденного человеку стремления обнять многое одним нераздельным порывом
мысли. Дробность, дискурсивность мышления, приписываемая языку, создала тот
стройный мир, за пределы коего мы, раз вступивши в них, уже не выходим; только,
забывая это, можно жаловаться, что именно язык мешает нам продолжать творение.
Крайняя
бедность и ограниченность сознания до слова не подлежит сомнению, и говорить о
несовершенствах и вреде языка вообще было бы уместно только в таком случае,
если бы мы могли принять за достояние человека недосягаемую цель его
стремлений, божественное совершенство мысли, примиряющее полную наглядность и
непосредственность чувственных восприятий с совершенной одновременностью и
отличностью мысли.
Слово
может быть орудием, с одной стороны, разложения, с другой - сгущения мысли
единственно потому, что оно есть представление, т.е. не образ, а образ образа.
Если образ есть акт сознания, то представление есть познание этого сознания.
Так как простое сознание есть деятельность не посторонняя для нас, а в нас
происходящая, обусловленная нашим существом, то сознание сознания или есть то,
что мы называем самосознанием, или полагает ему начало и ближайшим образом
сходно с ним. Слово рождается в человеке невольно и инстинктивно, а потому и
результат его, самосознание, должно образоваться инстинктивно. Здесь найдем
противоречие, если атрибутом самосознания сделаем свободу и намеренность.
Если
бы в то самое мгновение, как я думаю и чувствую, мысль моя и чувство отражались
в самосознающем я, то действительно упомянутое противоречие имело бы полную
силу. На стороне я, как объекта, была бы необходимость, с какой представления и
чувства, сменяя друг друга, без нашего ведома образуют те или другие сочетания;
на стороне я, как субъекта, была бы свобода, с какой это внутреннее око то
обращается к сцене душевной жизни, то отвращается от нее. Я сознающее и я
сознаваемое не имели бы ничего общего: я, как объект, нам известно, изменчиво,
усовершимо; я, как субъект, неопределимо, потому что всякое его определение есть
содержание мысли, предмет самосознания, нетождественный с самосознающим я; оно
неизменно и неусовершимо, по крайней мере неусовершимо понятным для нас
образом, потому что предикатов его, в коих должно происходить изменение, мы не
знаем. Допустивши одновременность сознаваемого и сознающего, мы должны
отказаться от объяснения, почему самосознание приобретается только долгим путем
развития, а не дается нам вместе с сознанием.
Но
опыт показывает, что настоящее наше состояние не подле жит нашему наблюдению и
что замеченное нами за собой принадлежит уже прошедшему. Деятельность моей
мысли, становясь сама предметом моего наблюдения, изменяется известным образом,
перестает быть собой; еще очевиднее, что сознание чувства, следовательно мысль,
не есть это чувство. Отсюда можно заключить, что в самосознании душа не
раздвояется на сознаваемое и чистое сознающее я, а переходит от одной мысли к
мысли об этой мысли, т.е. к другой мысли, точно так, как при сравнении от
сравниваемого к тому, с чем сравнивается. Затруднения, встречаемые при
объяснении самосознания, понятого таким образом, те же, что и при объяснении
простого сравнения. Говоря, что сознаваемое в процессе самосознания есть
прошедшее, мы сближаем его отношение к сознающему я с тем отношением, в каком
находится прочитанная нами первая половина периода ко второй, которую мы читаем
в данную минуту и которая, дополняя первую, сливается с ней в один акт мысли.
Если я говорю: <Я думаю то-то>, то это может значить, что я прилаживаю
такую-то мою мысль, в свое мгновение поглощавшую всю мою умственную деятельность,
к непрерывному ряду чувственных восприятий, мыслей, чувств, стремлений,
составляющему мое я; это значит, что я апперципирую упомянутую мысль своим я,
из которого в эту минуту может находиться в сознании очень немногое.
Апперципирующее не есть здесь неизменное чистое я, а, напротив, есть нечто
очень изменчивое, нарастающее с общим нашим развитием; оно не тождественно, но
однородно с апперципируемым, подлежащим самосознанию; можно сказать, что при
самосознании данное состояние души не отражается в ней самой, а находится под
наблюдением другого его состояния, т.е.
известной,
более или менее определенной мысли. Так, например, спрашивая себя, не проронил
ли я лишнего слова в разговоре с таким-то, я стараюсь дать отчет не чистому я и
не всему содержанию своего эмпирического я, а только одной мысли об том. что следовало
мне говорить с этим лицом, мысли, без сомнения, связанной со всем моим
прошедшим. Так, у психолога известный научный вопрос, цель, для которой он
наблюдает за собой, есть вместе и наблюдающая, господствующая в то время в его
сознании частица его я. Рассматривая самосознание с такой точки, с которой оно сходно
со всякой другой апперцепцией, можно его вывести из таких ненамеренных душевных
действий, как апперцепция в слове, т.е. представление.
Доказывая,
что представление есть инстинктивное начало самосознания, не следует, однако,
упускать из виду, что содержание самосознания, т.е. разделение всего, что есть
и было в сознании на я пне я, есть нечто постоянно развивающееся, и что,
конечно, в ребенке, только что начинающем говорить, не найдем того отделения
себя от мира, какое находит в себе развитый человек. Если для ребенка в первое
время его жизни все, приносимое ему чувствами.
все
содержание его души есть еще нерасчлененная масса, то, конечно, самосознание в
нем быть не может, но есть уже необходимое условие самосознания, именно
невыразимое чувство непосредственной близости всего находящегося в сознании к
сознающему субъекту. Некоторое понятие об этом чувстве взрослый человек может получить,
сравнивая живость ощущений, какими наполняют его текущие мгновения жизни, с тем
большим или меньшим спокойствием, с каким он с высоты настоящего смотрит на
свое прошедшее, которого он уже не чувствует своим, или - с равнодушным отношением
человека ко внешним предметам, не составляющим его личности. На первых порах
для ребенка еще все - свое, еще все - его я, хотя именно потому, что он не
знает еще внутреннего и внешнего, можно сказать и наоборот, что для него вовсе
нет своего я. По мере того, как известные сочетания восприятий отделяются от
этого темного грунта, слагаясь в образы предметов, образуется и самое я; состав
этого я зависит от того, насколько оно выделило из себя и объективировало не-я,
или, наоборот, от того, насколько само выделилось из своего мира: все равно,
скажем ли мы так или иначе, потому что исходное состояние сознания есть полное
безразличие я и не-я. Ход объективирования предметов может быть иначе назван процессом
образования взгляда на мир: он не выдумка досужих голов; разные его степени,
заметные в неделимом, повторяет в колоссальных размерах история человечества.
Очевидно, например, что когда мир существовал для человечества только как ряд
живых, более или менее человекообразных существ, когда в глазах человека
светила ходили по небу не в силу управляющих ими механических законов, а
руководясь своими соображениями; очевидно, что тогда человек менее выделял себя
из мира, что мир его был более субъективен, что тем самым и состав его я был
другой, чем теперь. Можно оставаться при успокоительной мысли, что наше
собственное миросозерцание есть верный снимок с действительного мира, но нельзя
же нам не видеть, что именно в сознании заключались причины, почему человеку
периода мифов мир представлялся таким, а не другим. Нужно ли прибавлять, что
считать созданье мифов за ошибку, болезнь человечества, значит думать, что
человек может разом начать со строго научной мысли, значит полагать, что
мотылек заблуждается, являясь сначала червяком, а не мотыльком? Показать на деле участие слова в образовании
последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе, есть основная
задача истории языка; в общих чертах мы верно поймем значение этого участия,
если приняли основное положение, что язык есть средство не выражать уже готовую
мысль, а создавать ее, что он не отражение сложившегося миросозерцания, а
слагающая его деятельность. Чтобы уловить свои душевные движения, чтобы осмыслить
свои внешние восприятия, человек должен каждое из них объективировать в слове и слово это
привести в связь с другими словами. Для понимания своей и внешней природы вовсе
не безразлично, как представляется нам эта природа, посредством каких именно
сравнений стали ощутительны для ума отдельные ее стихии, насколько истинны для
нас сами эти сравнения, одним словом - не безразличны для мысли: первоначальное
свойство и степень забвения внутренней формы слова. Наука в своем теперешнем
виде не могла бы существовать, если бы, например, оставившие ясный след в языке
сравнения душевных движений с огнем, водой, воздухом, всего человека с
растением и т.д. не получили для нас смысла только риторических украшений или
не забылись совсем; но тем не менее она развилась из мифов, образованных
посредством слова. Самый миф сходен с наукой в том, что и он произведен стремлением
к объективному познанию мира.
Чувственный
образ, исходная форма мысли, вместе и субъективен, потому что есть результат
нам исключительно принадлежащей деятельности и в каждой душе слагается иначе, и
объективен, потому что появляется при таких, а не других внешних возбуждениях и
проецируется душой. Отделять эту последнюю сторону от той, которая не дается человеку
внешними влияниями и, следовательно, принадлежит ему самому, можно только
посредством слова. Речь нераздельна с пониманием, и говорящий, чувствуя, что слово
принадлежит ему, в то же время предполагает, что слово и представление не
составляют исключительной, личной его принадлежности, потому что понятное
говорящему принадлежит, следовательно, и этому последнему.
Быть
может, мы не впадем в противоречие со сказанным выше о высоком значении слова
для развития мысли, если позволим себе сравнить его с игрой, забавой. Сравнение
<n'est pas raison>, но оно, как говорят, может навести на мысль. Забавы
нельзя устранить из жизни взрослого и серьезного человека, но взрослый должен
судить о ее важности не только по тому, какое значение она имеет для него
теперь, а и по тому, что значила она для него прежде, в детстве. Ребенок еще не
двоит своей деятельности на труд и забаву, еще не знает другого труда, кроме
игры; игра - приготовление к работе, игра для него исчерпывает лучшую часть его
жизни, и потому он высоко ее ценит. Точно так, мы не можем отделаться от языка,
хотя во многом стоим выше его (во многом - ниже, насколько отдельное лицо ниже
всего своего народа); о важности его должны судить не только по тому, как мы на
него смотрим, но и по тому, как смотрели на него предшествующие века. Не
вдаваясь в серьезные исследования, мы здесь только намекнем на отчасти
известные факты, характеризующие этот взгляд темных веков.
Теперь
и в простом народе заметно некоторое равнодушие к тому, какое именно из многих подобных слов
употребить в данном случае.
Судя
по некоторым пословицам (напр., <не вмер Данило, болячка вдавила>),
народу кажется смешным не видеть тождества мысли за различием слов. На такой
степени развития, как та, на которую указывают подобные пословицы, находимся
мы. За словом, которое нам служит только указанием на предмет, мы думаем видеть
самый предмет, независимый от нашего взгляда . Не то предполагаем во времена
далекие от нашего и даже во многих случаях в современном простом народе, употребляющем
упомянутые пословицы. Между родным словом и мыслью о предмете была такая тесная
связь, что, наоборот, изменение слова казалось непременно изменением предмета.
В пример этого Ляцарус приводит анекдот про немца, который к странностям
французов причислял то, что хлеб они называют <du pain>. Ведь мы же,
ответил ему другой, говорим <Brod>. Да, сказал тот, но оно Brod и есть.
Следует заметить, что для этого не^ща была уже, без сомнения, потеряна
внутренняя форма слова Brod , оно ничего ему не объясняло, а между тем казалось
единственно законным названием хлеба . Это дает нам право предположить, что в
то время, когда слово было не пустым знаком, а еще свежим результатом апперцепции,
объяснения восприятий, наполнявшего человека таким же радостным чувством
творчества, какое испытывает ученый, в голове коего блеснула мысль, освещающая
целый ряд до того темных явлений и неотделимая от них в первые минуты, что в то
время гораздо живее чувствовалась законность слова и его связь с самим
предметом. И в самом деле, в языке и поэзии есть положи ' Ср. польск.: <Ne
kijem, ino palka; серб.: Ние по ши)и, веть по врату. Срп. Поел.
Кар.
216>. Ни)е украо, него ужо, да нико не види. Ib. 219-, Не (х^имсе, но ме Je
страх (говорится в шутку, когда кто скажет, что не боится). Ib. 194. <Узео
наше мнило, на му надьео име оцило>, когда кто, взявши чужое, переиначит его
немного, чтобы не узнали. Ib. 230 и пр.
'
Поэтому мы имеем возможность сосредоточить мысль на слове, взятом отдельно от
своего содержания, что довольно затруднительно для ребенка. Выписываем относящееся
сюда место из предисловия к одному малоизвестному букварю: <Может случиться,
что ученик не будет отделять слова от предмета, напр., если спросить его, какой
звук (т.е. какая гласная) в слове стол,
может случиться что он будет смотреть на стол и не находить там никакого звука.
В таком случае нужно довести его до того, чтобы он мог представлять себе слово,
как нечто отдельное от предмета. Этого можно достигнуть объяснением неизвестных
ему слов>. Завадский..
По
Гримму, brot родственно с англ. breotan и предполагаемым лрв. H.priotaa, brechen,
ломать, так что brot - то, что ломают, или кусают, дробят зубами.
*
Можно, кажется, найти довольно подобных славянских анекдотов и пословиц.
<Непозна)ем
ja нашега бунгура> (кукурузной или пшеничной каши), казао некакав херцеговац,
кад je чуо, турци бунгур зову пилавом., као што га по босни турци, особито
спромашни^, заиста и зову и употреблу.;у као пиринач (т.е. вместо пилаву из риса).
Поел. 208. Херцеговинец (над которым
серб подсмеивается, как великороссиянин над хохлом) не узнал знакомой каши,
потому что ее назвали непривычным для него именем. Ср. также: *кад би трговац
сиагда добивао (если бы всегда получал барыш) не би се звао трговац, него
добиеалачМ.\Ь. 115), <Ловац, да свагда улови, не би се звао ловац, него
носац, Pjc4H. Обыкновенные названия купца, охотника кажутся единственно
законными.
тельные
свидетельства, что, по верованиям всех индоевропейских народов, слово есть
мысль, слово - истина и правда, мудрость, поэзия. Вместе с мудростью и поэзией
слово относилось к божественному началу.
Есть
мифы, обожествляющие самое слово. Не говоря о божественном слове ( iffyos)
евреев-еллинистов, скажем только, что как у германцев Один в виде орла похищает
у великанов божественный мед, так у индусов то же самое делает известный
стихотворный размер, превращенный в птицу. Слово есть самая вещь, и это
доказывается не столько филологической связью слов, обозначающих слово и вещь,
сколько распространенным на все слова верованием, что они обозначают сущность явлений.
Слово, как сущность вещи, в молитве и занятии получает власть над природой. <Verbo> Qux
mare turbatum, диэе conctta flumina sistant>
(Ovid. Met. VII, 150. Ср.: Ib. 204 и мн.
др.), эти слова имеют такую силу не только в заговоре, но и в поэзии. (<То
старина, то и деянье, как бы синему морю на утишенье>. Др. Р. Ст.), потому
что и поэзия есть знание. Сила слова не представлялась следствием ни нравственной
силы говорящего (это предполагало бы отделение слова от мысли, а отделения
этого не было), ни сопровождающих его обрядов. Самостоятельность слова видна
уже в том, что как бы ни могущественны были порывы молящегося, он должен знать,
какое именно слово следует ему употребить, чтобы произвести желаемое.
Таинственная связь слова с сущностью предмета не ограничивается одними
священными словами заговоров; она остается при словах и в обыкновенной речи. Не
только не следует призывать зла (<Не зови зло, jep само може дочи>, Ср.
Поел. 199), но и с самым невинным намерением, в самом спокойном разговоре не следует
поминать известных существ или, по крайней мере, если речь без них никак не
обойдется, нужно заменять обычные и законные их имена другими, произвольными не
имеющими той силы . Сказавши неумышленно одно из подобных слов, малорусский
поселянин до сих пор еще заботливо оговаривается: <не примиряючи>, <не
перед шччю згадуючи> (чтобы не привидилось и нс приснилось); серб говорит:
<не буди прими]енено>, когда в разговоре сравнить счастливого с
несчастным, живого с мертвым и пр. (Ср. Поел. 195), и трудно определить, где
здесь кончается обыкновенная вежливость и начинается серьезное опасение за
жизнь и счастье собеседника. Если невзначай язык выговорит не то слово, какого
требует мысль, те исполняется не мысль говорящего, а слово. Например, сербская
вештица, когда хочет лететь, мажет себе подмышками известной мазью (как и наша
ведьма) и говорит: <ни о три, ни о грм (дуб и кустарник тоже, как кажется,
колючий), beh на пометно гумно!>. Рассказывают, что одна женщина,
намазавшись этой мазью, невзначай вместо <ни с трн и пр. > сказала <и
о трн> и полетевши поразрывалась о кусты.
'
Много подтверждающих это немецких примеров можно найти в мифологии и словаре
Гримма: славянских тоже есть очень много.