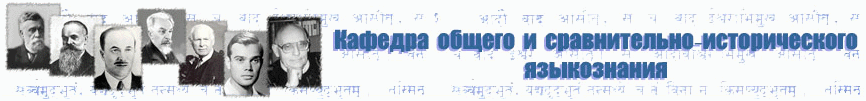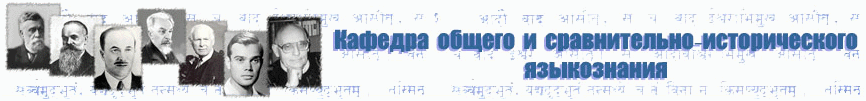Создание языка обусловлено внутренней потребностью человечества. Язык – не
просто внешнее средство общения людей, поддержания общественных связей, но
заложен в самой природе человека и необходим для развития его духовных сил и
формирования мировоззрения, а этого человек только тогда сможет достичь, когда
свое мышление поставит в связь с общественным мышлением. <…>
Возникновение языков обусловливается теми же причинами, что и
возникновение духовной силы, и в то же время язык остается постоянным
стимулятором последней. Язык и духовные силы развиваются не отдельно друг от
друга и не последовательно один за другой, а составляют нераздельную
деятельность интеллектуальных способностей. Народ создает свой язык как орудие
человеческой деятельности, позволяя ему свободно развернуться из своих глубин, и
вместе с тем ищет и обретает нечто реальное, нечто новое и высшее; а достигая
этого на путях поэтического творчества и философских предвидений, он в свою
очередь оказывает обратное воздействие и на свой язык. Если первые, самые
примитивные и еще не оформившиеся опыты интеллектуальных устремлений можно
назвать литературой, то язык развивается в неразрывной связи с ней.
Духовное своеобразие и строение языка народа пребывают в столь
тесном слиянии друг с другом, что коль скоро существует одно, то из этого
обязательно должно вытекать другое. В самом деле, умственная деятельность и язык
допускают и вызывают к жизни только такие формы, которые удовлетворяют их
запросам. Язык есть как бы внешнее проявление духа народов: язык народа есть его
дух, и дух народа есть его язык, и трудно представить себе что-либо более
тождественное. Каким образом оказывается, что они сливаются в единый и
недоступный пониманию источник, остается для нас загадкой. Впрочем, не пытаясь
определять приоритет одного или другого, мы должны видеть в духовной силе народа
реальный определяющий принцип и подлинную определяющую основу для различий
языков, так как только духовная сила народа является самым жизненным и
самостоятельным началом, а язык зависит от нее. <…>
Переходя к объяснению различий в строении языков, не следует
изучать духовное своеобразие народа обособленно от языка, а затем переносить его
особенности на язык. О народах, живших в ранние эпохи, мы узнаем вообще только
по их языкам, и при этом часто мы не в состоянии определить точно, какому именно
из народов, известных нам по происхождению и историческим связям, следует
приписать тот или иной язык. Так, зендский является для нас языком народа,
относительно которого мы можем строить только догадки. Среди всех проявлений,
посредством которых познается дух и характер народа, только язык и способен
выразить самые своеобразные и тончайшие черты народного духа и характера и
проникнуть в их сокровенные тайны. Если рассматривать языки в качестве основы
для объяснения ступеней духовного развития, то их возникновение следует,
конечно, приписывать интеллектуальному своеобразию народа, а это своеобразие
отыскивать в самом строе каждого отдельного языка. Чтобы намеченный путь
рассуждения мог быть завершен, необходимо глубже вникнуть в природу языков и в
возможность обратного воздействия различных языков на духовное развитие и таким
образом поднять сравнительное языковедение на высшую и конечную ступень.
Для успешного продвижения по намеченному выше пути необходимо,
конечно, установить правильное направление в исследовании языка. Язык следует
рассматривать не как мертвый продукт ( Erzeugtes ), но как созидающий
процесс ( Erzeugung ). При этом надо абстрагироваться от того, что он
функционирует для обозначения предметов и как средство общения, и вместе с тем с
большим вниманием отнестись к его тесной связи с внутренней духовной
деятельностью и к факту взаимовлияния этих двух явлений. <…>
По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и
вместе с тем в каждый данный момент преходящее. Даже его фиксация посредством
письма представляет собой далеко не совершенное мумиеобразное состояние, которое
предполагает воссоздание его в живой речи. Язык есть не продукт деятельности (
Ergon ), а деятельность ( Energeia ). Его истинное определение может быть
поэтому только генетическим, Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся
работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для
выражения мысли. В строгом смысле это определение пригодно для всякого акта
речевой деятельности, но в подлинном и действительном смысле под языком можно
понимать только всю совокупность актов речевой деятельности. В беспорядочном
хаосе слов и правил, которые мы по привычке именуем языком, наличествуют лишь
отдельные элементы, воспроизводимые – и притом неполно – речевой деятельностью;
необходима вся повторяющаяся деятельность, чтобы можно было познать сущность
живой речи и составить верную картину живого языка. По разрозненным элементам
нельзя познать то, что есть высшего и тончайшего в языке; это можно постичь и
уловить только в связной речи, что является лишним доказательством в пользу
того, что каждый язык заключается в акте его реального порождения. <…>
Расчленение языка на слова и правила – это лишь мертвый продукт научного
анализа. <…>
Так как каждый язык наследует свой материал из недоступных нам
периодов доистории, то духовная деятельность, направленная на выражение мысли,
имеет дело уже с готовым материалом: она не создает, а преобразует.
Эта деятельность осуществляется постоянным и однородным образом.
<…> Постоянное и единообразное в этой деятельности духа, возвышающей
членораздельный звук до выражения мысли, взятое во всей совокупности своих
связей и систематичности, и составляет форму языка. <…>
Из всего до сих пор сказанного с полной очевидностью явствует, что
под формой языка разумеется отнюдь не только так называемая грамматическая
форма. Различие, которое мы обычно проводим между грамматикой и лексикой, имеет
лишь практическое значение для изучения языков, но для подлинного
языковедческого исследования не устанавливает ни границ, ни правил. <…>
В абсолютном смысле в языке не может быть никакой неоформленной
материи, так как все в нем направлено на выполнение определенной цели, а именно
на выражение мысли, причем работа эта начинается уже с первичного его элемента –
членораздельного звука, который становится членораздельным благодаря приданию
ему формы. Действительная материя языка – это, с одной стороны, звук вообще, а с
другой – совокупность чувственных впечатлений и непроизвольных движений духа,
предшествующих образованию понятия, которое совершается с помощью языка.
<…>
Тщательное проникновение во все грамматические тонкости слов, а
также их простейших элементов совершенно необходимо, чтобы избежать ошибок в
своих суждениях о них. Вместе с тем, само собой разумеется, что эти частности
должны включаться в понятие формы языков не в виде изолированных фактов, а лишь
постольку, поскольку в них вскрывается единый способ образования языка. Через
описание формы мы должны установить тот специфический путь, которым идет к
выражению мысли язык, а с ним и народ, говорящий на этом языке. Надо уметь
видеть, чем отличается данный язык от других как в отношении своих определенных
целей, так и по своему влиянию на духовную деятельность нации. По самой своей
природе форма языка есть синтез отдельных, в противоположность ей
рассматриваемых как материя, элементов языка, в их духовном единстве. Такое
единство мы обнаруживаем в каждом языке, и посредством этого единства народ
усваивает язык, который передается ему по наследству. Это же единство должно
найти отражение и при описании языка, и только тогда, когда от разрозненных
элементов поднимаются до этого единства, получают реальное представление о самом
языке. Без такого подхода мы определенно рискуем просто-напросто не понять
отдельных элементов в их подлинном своеобразии, и тем более в их реальной
взаимосвязи. <…>
Язык есть орган , образующий мысль (Die Sprache ist das bildende
Organ des Gedanken). Интеллектуальная деятельность, совершенно духовная, глубоко
внутренняя и проходящая в известном смысле бесследно, посредством звука
материализуется в речи и становится доступной для чувственного восприятия.
Интеллектуальная деятельность и язык представляют собой поэтому единое целое. В
силу необходимости мышление всегда связано со звуками языка; иначе мысль не
сможет достичь отчетливости и ясности, представление не сможет стать понятием.
Нерасторжимая связь мысли, органов речи и слуха с языком обусловливается
первичным и необъяснимым в своей сущности устройством человеческой природы.
При этом согласованность между звуком и мыслью сразу же бросается в глаза.
<…>
Поистине в языке следует видеть не какой-то материал, который
можно обозреть в его совокупности или передать часть за частью, а вечно
порождающий себя организм, в котором законы порождения определенны, но объем и в
известной мере даже способ порождения остаются совершенно произвольными.
Усвоение языка детьми – это не ознакомление со словами, не простая закладка в их
памяти и не подражательное лепечущее повторение их, а рост языковой способности
с годами и упражнением. Услышанное не просто сообщается нам: оно настраивает
душу на более легкое понимание еще ни разу не слышанного; оно проливает свет
на давно услышанное, но с первого раза полупонятое или вовсе не понятое и лишь
теперь – благодаря своей однородности с только что воспринятым – проясняющееся
для окрепшей меж тем душевной силы; оно стимулирует стремление и способность все
быстрее впитывать памятью все большую часть услышанного, все меньшей его части
позволяя пролетать пустым звуком. Успехи здесь растут поэтому не как при
заучивании вокабул – в арифметической прогрессии, возрастающей только за счет
усиленного упражнения памяти, - но с постоянно увеличивающейся скоростью, потому
что рост способности и накопление материала подкрепляют друг друга и взаимно
раздвигают свои границы. Что у детей происходит не механическое выучивание
языка, а развертывание языковой способности, доказывается еще и тем, что коль
скоро для развития главнейших способностей человека отведен определенный период
жизни, то все дети при разных обстоятельствах начинают говорить и понимать
внутри примерно одинаковых возрастных пределов с очень небольшими колебаниями.
<…>
Как ни одно понятие невозможно без языка, так без него для нашей
души не существует ни одного предмета, потому что даже любой внешний предмет для
нее обретает полноту реальности только через посредство понятия. И наоборот, вся
работа по субъективному восприятию предметов воплощается в построении и
применении языка. Ибо слово возникает как раз на основе этого восприятия; оно
есть отпечаток не предмета самого по себе, но его образа, созданного этим
предметом в нашей душе. <…> Как отдельный звук встает между предметом и
человеком, так и весь язык в целом выступает между человеком и природой,
воздействующей на него изнутри и извне. Человек окружает себя миром звуков,
чтобы воспринять в себя и переработать мир вещей. Эти наши выражения никоим
образом не выходят за пределы простой истины. Человек преимущественно – да даже
и исключительно, поскольку ощущение и действие у него зависят от его
представлений, - живет с предметами так, как их преподносит ему язык.
Посредством того же самого акта, в силу которого он сплетает ( herausspinnt )
язык изнутри себя, он вплетает ( einspinnt ) себя в него; и каждый язык
описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано
выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка.
Освоение иностранного языка можно было бы уподобить завоеванию новой позиции в
прежнем видении мира; до известной степени фактически так дело и обстоит,
поскольку каждый язык содержит всю структуру понятий и весь способ представлений
определенной части человечества. И только потому, что мы в большей или меньшей
степени переносим на иностранный язык свое собственное миропонимание и, больше
того, свое собственное представление о языке, мы не осознаем отчетливо и в
полной мере, чего нам здесь удалось достичь. <…>
В языке решающим фактором является не обилие звуков, а, скорее,
наоборот, - гораздо существенней строгое ограничение числа звуков, необходимых
для построения речи, и правильное равновесие между ними. Языковое сознание
должно поэтому содержать еще нечто, не поддающееся детальному объяснению, -
сходное с инстинктом предчувствие всей системы в целом, на которую опирается
язык в данной индивидуальной форме. Здесь уже проявляется то, что, в сущности,
повторяется во всем процессе образования языка. Язык можно сравнить с огромной
тканью, все нити которой более или менее заметно связаны между собой и каждая –
со всей тканью в целом. С какой бы стороны к этому ни подходить, человек всякий
раз касается в речи лишь какой-то отдельной нити, но, движимый инстинктом, он
постоянно совершает это так, как будто в данный момент ему открыта вся основа, в
которую неизбежно вплетена эта отдельная нить. <…>
Грамматически оформленное слово, которое мы до сих пор
рассматривали в сочетании его элементов и в его единстве как нечто целое,
призвано войти в предложение на правах опять-таки одного из элементов. Язык
должен теперь образовать второе единство, более высокое, чем единство слова, -
не просто потому, что оно больше по объему, но также и потому, что, не имея для
себя никакого непосредственного звукового оформления, никаких непосредственных
фонетических указателей, единство предложения почти исключительно зависит от
упорядочивающей деятельности внутренней формы языкового чувства. Языки, которые,
подобно санскриту, уже в самом словесном единстве содержат указание на связь
слова с предложением, позволяют последнему распасться на части, в которых оно, в
соответствии со своей природой, предстает перед рассудком; из этих частей они
[языки] как бы выстраивают его [предложения] единство. Языки, которые, подобно
китайскому, складывают предложение из жестких, неизменяемых корневых слов,
поступают, собственно говоря, точно так же, причем даже в еще более строгом
смысле, поскольку китайские слова выступают совершенно обособленными; однако
здесь строить единство предложения помогают рассудку только нефонетические
средства, как, например, место слов в предложении или особые, в свою очередь
тоже изолированные слова. Если взять в сочетании оба эти способа, какими
единство предложения фиксируется в понимании, то окажется, что есть еще и
другой, противоположный им обоим способ, который нам здесь удобнее было бы
считать третьим. Он заключается в том, чтобы рассматривать предложение вместе со
всеми его необходимыми частями не как составленное из слов целое, а, по
существу, как отдельное слово. <…>
Три перечисленных подхода – тщательное оснащение слова
грамматическими указателями его связей внутри предложения; вполне косвенное,
причем большей частью нефонетическое, обозначение этих связей; наконец, тесное
сплочение всего предложения, насколько это только возможно, в единую, слитно
выговариваемую форму – исчерпывают все способы, какими языки соединяют слова в
предложение. В большинстве языков можно обнаружить более или менее отчетливые
следы всех трех методов. Но иногда один из этих методов явно преобладает,
становясь средоточием языкового организма и с более или менее строгой
последовательностью подчиняя себе все его части. В качестве примера решающего
преобладания какого-то одного из трех методов можно назвать санскрит, китайский
и, как я сейчас покажу, мексиканский язык.
Этот последний, стремясь сплотить простое предложение в единую,
фонетически связную форму, выделяет в качестве его истинного средоточия глагол,
присоединяет к нему по мере возможности все управляющие и управляемые части
предложения и с помощью фонетического оформления придает этому сочетанию вид
связного целого:
1 2 3 1
3 2
ni – naca – qua ‘я ем
мясо’
Такой союз субстантива с глаголом можно было бы принять за составной глагол
наподобие греческого κρεωφαγέω, но мексиканский язык понимает все явно иначе. В
самом деле, когда по какой-либо причине само по себе существительное не
инкорпорируется, оно заменяется местоимением третьего лица, отчетливо
показывающим, что язык требует при глаголе и внутри глагола сразу всей
конструкции предложения по общей схеме:
1 2 3 4 5 1 3
2 4 5
ni – c – qua in nacatl ‘я ем его это
мясо’
Все предложение в том, что касается его формы, должно предстать завершенным
уже в глаголе, и дальнейшие уточнения входят в него лишь задним числом наподобие
предложений. По мексиканским представлениям, глагол вообще немыслим без
восполняющих его сопутствующих определений. Если объект действия не определен,
язык привязывает к глаголу особое неопределенное местоимение, имеющее две формы
– личную и предметную:
1 2 3 1 3 2 1 2 3 4
1 4 3 2
ni - tla - qua ‘я ем что-то’; ni - te - tla - maca ‘я даю
нечто кому-то’.
Язык недвусмысленнейшим образом обнаруживает свое намерение представить эти
сочетания как одно целое. В самом деле, когда такой глагол, охватывающий собою
все предложение или как бы его схему, переводится в прошедшее время, получая
соответственно аугмент о, последний ставится в начало глагольного сочетания, и
это ясно показывает, что сопутствующая глаголу схема предложения всегда и с
необходимостью принадлежит глаголу, аугмент же добавляется только привходящим
образом как указатель прошедшего времени. Так, перфектом от ni - nemi ‘я живу’,
не присоединяющего к себе в качестве непереходного глагола никаких других
местоимений, будет o - ni - nen ‘я пожил’, перфектом от maca ‘давать’ - o - ni
- c - te - maca - c ‘я кому-то дал это’. Еще важнее, однако, то, что у слов,
применяемых для инкорпорирования, язык тщательно различает две формы –
абсолютную и инкорпорируемую; это предусмотрительное различение, без которого
весь метод инкорпорации оказался бы затруднителен для понимания, надо
рассматривать как его основу. Имена при инкорпорировании, как и в составе
сложных слов, утрачивают окончания, которые в абсолютной форме всегда
сопутствуют им в качестве именных характеристик. Слово ‘мясо’, которое при
инкорпорировании мы встретили выше в форме naca , имеет абсолютную форму nacatl
. Из числа инкорпорируемых местоимений ни одно не сохраняет ту же форму при
обособленном употреблении. <…>
В сравнении с инкорпорированием и с приемом нанизывания слов,
лишенных внутри себя подлинного единства, флективный метод предстает гениальным
началом, порождением верной языковой интуиции. В самом деле, пока
инкорпорирующие и изолирующие языки мучительно силятся соединить разрозненные
элементы в предложение или же сразу представить предложение связным и цельным,
флективный язык непосредственно маркирует ( stempelt ) каждый элемент языка
сообразно выражаемой им части внутри смыслового целого и по самой своей природе
не допускает, чтобы эта отнесенность к цельной мысли была отделена в речи от
отдельного слова. Слабость языкотворческого порыва в языках, подобных
китайскому, не позврляет флексии получить фонетическое воплощение, а в языках,
применяющих только метод инкорпорирования, не допускает ее до свободного и
безраздельного господства. <…>
Сколь бы разнообразными ни были отклонения от чистого принципа,
всегда есть возможность охарактеризовать каждый язык смотря по тому, насколько
в нем явно либо отсутствие обозначений связи между частями предложения, либо
стремление ввести такие обозначения и поднять их до статуса флексии, либо
довольствование таким вспомогательным средством, как придание формы слова тому,
чему в речи следовало бы выступать целым предложением. Степенью смешения этих
трех начал определяется сущность каждого языка. Но, как правило, их
взаимодействие ведет к образованию какой-то еще более индивидуальной формы.
<…>
Язык – русло, по которому дух может катить свои волны в надежной
уверенности, что питающие его источники никогда не иссякнут. <…>