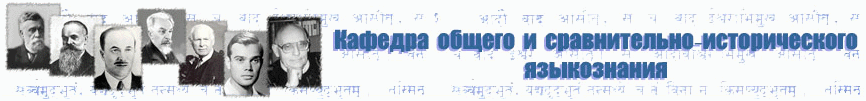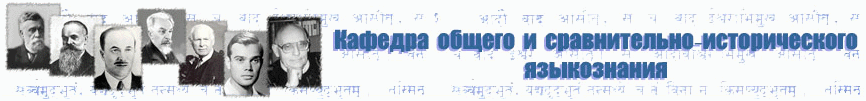— Свой? Стучишь по блату?
Так выражается на этом
своеобразном профжаргоне вопрос о социальной принадлежности и о
языковом ее признаке, т. е. о знании этого жаргона.
Местоимение
«свой» в данном случае уже вовсе почти утратило свои местоименный
характер: его можно считать просто именем, коллективным наименованием
определенной социальной группы, которую мы назвали бы совокупностью лиц
темных профессий. Иначе говоря, «свой» обозначает здесь то же, что
«блатной», т. е. принадлежащий к «блату»; и в этом смысле «свой»
противополагается всему прочему. И вот, подобно тому как «я» и «не-я» в
философском языке Фихте уже перестали принадлежать к местоимениям и
являются уже настоящими именами существительными, так же перестает быть
местоимением и блатное слово «свой». Окказиональное подтверждение этого
перехода местоимения в имя дает, напр., следующее словоупотребление,
заслушанное мною от одной из представительниц блатного мира:
— Я
слушаю и удивляюсь, — рассказывает эта молодая апашка — одет он, как
офицер, с орденами — словом совсем, как фрайер, а говорит свои слова.
Рассказ
шел про некоего авантюриста 1912–1914 годов, хорошо известного своими
подвигами и блату и прочему столичному люду. Мою собеседницу поразило
то, что этот офицер по костюму, фрайер по внешнему виду говорил именно
не свойственные офицеру и фрайеру (т. е. именно не свои, как сказали
бы, пожалуй, мы) а блатные или «свои» слова.1
Мы уже сказали,
что понятию «свой» противополагается понятие «фрайер». Допускаю,
правда, что мне захотят возразить, сказав, что прямой, диаметральной
противоположностью, к «своему» и «блатному» люду этот блатной люд
скорее назовет «лягавого» или «лягаша» (т. е. своего профессионального
врага — агента Угрозыска). Это, однако, не совсем так. Возможны,
конечно, случаи, когда в фактической блатной речи эти два понятия и
встретятся во взаимном противоположении, — в таком, напр., обороте: «Да
разве он свой? Он — лягавый: смотри, как всё зикторит» (следит,
высматривает). Но это будет именно окказиональное противоположение.
Фактически же, «лягавый» — это лишь название профессии, a «свой» и
«фрайер» — термины уже гораздо более широкого значения. К тому же и про
«лягавого», с точки зрения блата, может быть сказано, что он — или
«свой» или «фрайер»: он — «свой», если когда-либо принадлежал к
блатному миру, если он «стучит по блату», и тем более, если он и сейчас
не порвал связей со «своими». И наоборот, «лягавый» будет назван
настоящим «фрайером», если он вполне, и в настоящем и в прошлом, чужд
«своему» миру. «Фрайер» — это, наоборот, понятие взаимноисключающее по
отношению к понятию «свой» или «блатной». Откуда же взялось слово
«фрайер» с этим своим значением? — Очевидно, из еврейско-немецкого
Freier, причем, в виде гипотезы, я допускаю, что вошло оно из
еврейско-немецкой в русскую блатную речь скорее всего на территории
Одессы. Роль такого крупного портового центра, каким является Одесса, в
формации блатного словаря мне вообще представляется значительной. В
частности мы находим в числе блатных слов, наряду с многими
еврейско-немецкими, даже английские слова. Напр. шкет (scout)2, плашкет
(play-scout), шопошник (вероятно от английского shop — магазин, значит
«вор по магазинам», т. е. является синонимом к «городушнику»). Думаю,
что именно в интернациональном месиве низов портового города и можно
искать ту почву, которая была проводником этих английских слов в речь
русского блата. И тем более, конечно, данных для проникновения из того
же территориального пункта — еврейско-немецких слов. Мне могут
возразить, правда, что такое слово как Freier могло впервые приобрести
блатное употребление не только в Одессе, но в любом пункте так наз.
«западной окраины» или в Прибалтийском крае, может быть, в Риге, и т.
д. И, собственно говоря, у меня нет достаточно веских данных, которые я
мог бы решительно противопоставить этому: напомню, что предположение о
вероятной роли Одессы (в формации данного блатного слова) для меня —
только догадка. Тем не менее укажу, что есть слова, попадающие в
блатное употребление из еврейско-немецкого языка и ограничивающие это
свое блатное употребление только одним территориальным районом. Таково,
напр., типично рижское блатное выражение «гохунг» (если писать
по-немецки, следовало бы написать Hochung): происходит оно из
еврейско-немецкого Hoffnung — надежда — и употребляется в виде
восклицания, со значением «номер ваш не прошел, лопнули ваши надежды!»
В данном случае, следовательно, когда мы можем локализовать (т. е.
связать с известной территорией) процесс становления блатного термина,
мы наталкиваемся на то, что термин этот имеет только местное
распространение. А в качестве родины для таких «общеблатных» терминов,
как «фрайер», «плашкет» и т. п. более вероятно будет предполагать
наиболее крупный из интернациональных (особенно в социальных низах
своих) городских центров, каким именно и является Одесса.
Если
мы возьмем, с одной стороны, такие элементы блатного словаря, как
вышеприведенное «лягавый» (в смысле сыскной агент, по преимуществу
агент Угрозыска), «скамейка» (в смысле лошадь), «перо» (вместо нож),
«бока» (вместо карманные часы), «сопля» (вместо цепочка), «рыжий»
(вместо золотой), «темный» (вместо краденый товар) или глаголы:
«купить» (вместо украсть), «пришить» (вместо убить) и т. д. и т. д., а
с другой стороны, в противоположность им возьмем хотя бы факт появления
слова «шопошник» (от английского shop), мы увидим здесь, в чистой своей
форме, две различных формации блатных слов. В одной из них просто
берется некое русское слово, связываемое известной метафорической
ассоциацией3 с требующей обозначения идеей, и ему условно присваивается
функция словарного обозначения этой идеи: слово «сопля» всплыло в виде
метафоры к идее «часовой цепочки», и было фиксировано как блатное слово
со значением «часовая цепочка». Криптолалическая цель здесь достигнута
тем, что, несмотря на употребление русского (а не иностранного слова),
оно остается для постороннего непонятным благодаря условной подмене
смыслового значения.
В слове «шопошник» наоборот, никакой
подмены значения у английской основы shop не было произведено: shop
значило магазин, а отсюда «шопошник» — буквально должно было бы значить
«магазинщик». Но для русского «фрайера» слово непонятно потому, что
непонятна его иностранная основа: это, следовательно, второй прием,
которым достигается потайной (криптолалический) характер выражения.
Если
мы сравним число слов (специфически блатных по своему употреблению) той
и другой формации, т. е. 1) типа «лягавый» (сыскной агент), «скамейка»
(лошадь) и т. д. и 2) типа «шопошник», то статистический перевес
окажется на стороне первой категории (чего мы собственно и могли
ожидать, исходя из того, что для второго пути необходимым является
соприкосновение данной формирующей слово среды с иностранной речью).
Тем не менее число заимствованных (или, что в сущности все равно,
производных от заимствованной основы — что мы имеем в слове «шопошник»)
оказывается довольно значительным, и объяснять это хочется именно
наличием специального заказа на заимствование чужих (иностранных) слов:
там, где данное чужое (допустим, напр., еврейско-немецкое или тюркское)
слово вовсе не имеет данных быть усвоенным (т. е. заимствованным) в
нормальную, непотайную русскую речь, ибо данное значение в ней
обслуживается уже своим русским словом, — оно может, наоборот, стать
блатным словом только за свою непонятность (для массовой русской
cpeды). Этому специфическому профессиональному спросу на заимствования
и приходится, таким образом, приписать в общем итоге те иноязычные по
происхождению слова, которые мы в таком относительно большом количестве
найдем в блатном словаре: по преимуществу 1) слова еврейско-немецкие и
2) тюркско-татарские (или «турецкие»)4, примером которых может служить,
напр., слово «кича» — тюрьма. Случаи заимствования из других языков
подбираются уже с трудом и далеко не всегда с уверенностью (специальным
же исследованием в области блатных этимологий у нас еще никто не
удосужился заняться); во всяком случае, здесь удается констатировать —
как мы уже говорили — несколько английских и, с другой стороны,
мордовских слов.
Однако в отличие от такого слова как
«шопошник», где исходная английская основа не подвергалась
сознательному изменению значения (shop— магазин — шопошник — магазинный
вор), весьма часто мы встречаем смысловый сдвиг и при заимствовании.
Это мы найдем и в слове «фрайер», и в слове «кича» — тюрьма, которое
восходит к татарскому «кича» (ср. узбекское кеча — ночь), и до
известной степени и в «физирь» (из вазир — визирь) и во многих других
турецких заимствованиях.
Наконец надо упомянуть еще об одном
приеме, которым также достигается неузнаваемость т. е. потайной
характер слова: это — частичное изменение5 звукового состава исходной
формы. Примером — из слов иностранных по происхождению — может служить
хотя бы слово «хаза» (в смысле потайной воровской квартиры), в котором
можно видеть метаморфозу немецкого Haus — дом. Заметим что в приеме
сознательного изменения звукового состава мы встречаем тот принцип
потайного словотворчества, на котором зиждутся многие другие
криптолалические системы, т. е. иные — кроме «блатной музыки» —
потайные языки. На нем основываются, между прочим, детские потайные
языки, которые можно констатировать в самых различных странах (в том
числе в Средней Азии, в Узбекистане); с другой стороны, потайные языки
некоторых отнюдь не уголовных, но оберегающих свою неприкосновенность
социальных групп: таков напр., дворянский язык или язык «уорков» у
черкесов.6 Общий принцип формации таких языков сводится обыкновенно к
прибавлению ко всем словам (в начале, или в середине, или после каждого
слога) одних и тех же слогов или звуков. Таков же был и тот потайной
язык немецких буршей — так наз. Li-Sprache (т. е. «язык ли»),
существованию которого мы обязаны происхождением слова «филистер»
(слова, для которого, несмотря на его внешний, как будто бы латинский
вид, никак нельзя подобрать объяснения ни из латинского, ни из
греческого). Приемом потайного словообразования в этом языке веселых
буршей служила инфиксация (т. е. вставка внутрь слова) слога li таким
образом, Liebe превращалось в Lielibe, haben в haliben, и т. д. Слово
Filister раскрывается тогда как потайная форма от Fister.7 В смысловом
отношении объяснение это, конечно, можно признать вполне
удовлетворительным, если мы примем во внимание значение слова филистер
и ту окраску, которая ему придавалась в буршевской среде, смотревшей на
себя (т. е. на буршей) как на взаимно исключающую противоположность по
отношению к филистерам. Мы видим здесь, следовательно, один из примеров
того, как слово из механически-условного потайного языка («Li-Sprache»)
вошло в общенациональную речь, и даже более того — стало не только
общенемецким, но и общеевропейским словом (войдя, напр., в русский и
прочие европейские языки). Подобные же случаи можно встретить и на
русской почве: так, напр., слово шиворот весьма соблазнительно
объяснить из некоего «ши-языка»), который образовал свои слова путем
присоединения к началу слога ши.8
Все эти «зи-языки»,
«ли-языки», «ши-языки» и т. п. имеют (по крайней мере, в настоящее
время) совсем иную социальную природу и не носят серьезной функции в
виде охраны профессиональных интересов всего уголовного класса — как
язык блата или блатная музыка.
Радикальное различие, как мы
видим из всех вышеприведенных примеров, мы должны констатировать между
ними (т. е. «ши-языком», с одной стороны, и блатной музыкой, с другой)
и в самой технике словообразования, которую для блатной музыки лучше
будет, пожалуй, именовать техникой словотворчества. Здесь,
действительно, мы встречаем не индивидуальную выдумку какого-либо
единого организующего приема (в виде вставки ли как в «филистер»), а в
подлинном смысле широкое коллективное, а потому и широко разнообразное
по приемам своим9 языковое творчество, к которому мы вправе отнестись
так же, как и коллективному процессу эволюции всякого другого
нормального языка.
Остается сказать о втором из упомянутых в
начале статьи выражений — о вопросе «стучишь по блату?», который
означает: говоришь ли (т. е. умеешь ли говорить) на нашем «своем» языке.
На
первый взгляд здесь хочется видеть простую метафору («стук» вместо —
разговор), т. е. того же порядка процесс, что и в слове «скамейка»:
вместо лошадь и т. п., и нас, пожалуй, заставит остановиться здесь лишь
отсутствие более или менее очевидного юмористического момента (той
«изюминки», которая сопровождает большинство блатных метафор). В
действительности же, ассоциации между «стуком» (стучанием) и
«разговором» (или «языком»), по-видимому, оказываются гораздо более
реальными. Вспомним тюремную (т. е. до известной степени родную для
блата) обстановку, где стучанье в стену является разговором в самом
буквальном смысле.
Замечу, что когда мы располагаем лишь двумя
данными. из которых нам предстоит восстановить действительный
психический процесс, приведший к созданию рассматриваемою нами блатного
словоупотребления, именно располагаем — 1) исходным значением слова в
общерусском языке, 2) конечным пунктом в виде блатного его значения, то
это далеко не всегда бывает достаточным, чтобы вскрыть все подлинные
ассоциации, имевшие место при данном акте словотворчества. Выше
приведен был, между прочим, пример «подавать на высочайшее имя» — в
смысле «заниматься онанизмом». Но я уверен, что никому из нас в голову
не придет та подлинная цепь ассоциаций (если только, разумеется, не
быть о ней осведомленным по разъяснениям самих представителей блатного
языка и блатной психологии), которой соединены здесь: 1) представление
об «онанизме», 2) представление об императрице, императоре и в конце
концов о «прошении на их имя». К сожалению, нет возможности изложить
этот ассоциационный процесс, оставаясь в рамках печатных, т. е.
элементарно приличных выражений.
ПРИМЕЧАНИЯ
1Правда, с
точки зрения «логики языка» нас не вполне удовлетворяет здесь это
выражение «говорит свои слова»: мы ожидали бы скорее — «говорит
свойские слова», поскольку мы уже знаем что «свой» говорится про людей
определенного круга. Но этих тонкостей языкового чутья мы напрасно
стали бы ждать от данного нашего объекта. Ведь это была, между прочим,
та самая девушка (с уличным развитием и уличной профессией) которая,
рассказывая про городского голову (речь шла про М. П. Калинина,
исполнявшего в 1918 году обязанности Петроградского городского головы),
никак не могла сочетать слово «голова» с представлением мужеского
грамматического рода: у нее постоянно выходило: «городская голова
сказала», «городская голова обещала» и т. д. и т. д.
2 Отсюда уже производное — шкица (жен. род).
3Эти-то
ассоциации и представляют наибольший интерес в глазах исследователя
блатного языка, как определенного социального явлення; и в
действительности мы почти всегда найдем в них своеобразную и
характерную именно для данной социальной среды юмористическую
«изюминку». Напомним, следующие, напр., выражения: «подавать на
высочайшее имя» (вместо заниматься онанизмом; выражение это, положим,
по-видимому, нельзя считать общеблатным; оно было распространено, по
преимуществу, в острожных тюрьмах); «блядь» вместо сторублевка — потому
что на сторублевке изображалась Екатернна II; слово это, приводимое,
между прочим, и О. Трахтенбергом в его «Блатной музыке», нужно считать
давно уже устаревшим; в настоящее время «блядь» означает сыскного
агента, и в этом именно смысле оно и употребляется в так наз.
«обзываньях» (заменяющих божбу, клятву): «пусть я блядь буду если...
(не выполню обещания или т. п.)»...; «копилка» — vulva и т. п. и т. п.
4 В лингвистическом смысле слово «турецкий» означает принадлежность к тюркско-татарской (или «тюркской») семье языков.
5
Оно может иметь место и в отношении русских и иностранных (по своей
исходной форме) слов. Само собой разумеется, что, поскольку речь идет
об иностранных заимствованиях, под изменением звукового их состава
надлежит понимать не те звуковые сдвиги, которые невольно и осязательно
претерпевает заимствуемое слово в силу принципиальных различий между
фонетическими системами языка-источника заимствования и языка русского
(т. е. сдвиги, которые были бы обязательны и не только в блатной, но
вообще в русской языковой среде), а наоборот — более крупные и более
или менее сознательные метаморфозы.
6Для курьеза упомяну, что,
задавшись предвзятой мыслью о египетском происхождении абхазо-черкесов,
некоторые исследователи, прослышав о существовании потайного языка
черкесских «уорков», непонятного для обыкновенных смертных, хотели
видеть в нем абиссинский или египетский язык, уцелевший, дескать, от
тех времен, когда его принесли в Черкессию египетские (или абиссинские)
выходцы. На самом же деле это — обыкновенный черкесский язык,
видоизмененный лишь посредством добавления к каждому слову звука з (или
слога со звуком з).
7 Fister — имя действующего лица от глагола
fisten, и значит, таким образом, «пердун, бздун». В
историко-фонетическом отношении немецкое fisten вполне правильно
соответствует русскому бздеть и греческому bdeo с тем же значением.
8
К той же системе «ши-языка» восходит, может быть, и слово шибзд (я
помню, как в мои гимназические годы слово это употреблялось с вполне
точным значением — для обозначения гимназиста (или вообще школьника)
младшего класса; таким образом, для третьеклассника шибздом был
второклассник и первоклассник, для первоклассника — приготовишка и т.
д.).
9 И прием звуковой метаморфозы (поскольку мы найдем среди
приемов блатного словоупотребления и его примеры) будет здесь лишь
частным случаем, т. е. окказиональным приемом (и притом не
стандартизованным в виде вставки одного и того же звука или слога как в
«ши-языке»).
Поливанов Е. Д. За марксистское языкознание. М.: Федерация, 1931. С. 152–160.
http://www.ruthenia.ru/apr/textes/polivan/poliv7.htm