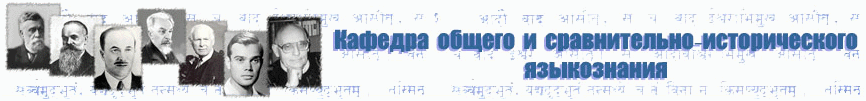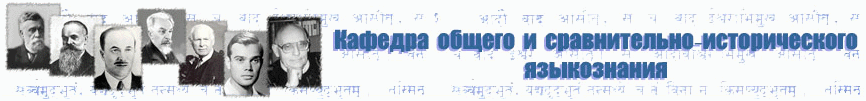От революции зависит целый ряд революционных (и именно революционных, а
не эволюционных) процессов в самых различных областях нашего быта и
нашей духовной культуры, вплоть до такого специального уголка, как
техника нашего письма: графика и орфография, которые тоже пережили свою
революцию в «новой орфографии 1917 г.». И поскольку эти процессы стали
возможны исключительно при наличии Октябрьской революции и в своем
содержании отражают политические ее лозунги (как, напр., «новая
орфография 1917 г.» осуществляет лозунг демократизации письменности, а
следовательно, и книжной культуры вообще), можно даже сказать иначе,
именно: эти процессы — не просто следствия, но составные части
Октябрьской революции, плоть от плоти и кровь от крови ее, и таким
образом даже «новая орфография 1917 г.» (которая была невозможна при
царизме и которую не умела и не могла осуществить керенщина) — это тоже
кусочек революции в узкой технической области духовной культуры — в
графике. И тем более это можно сказать о вызванных к жизни Октябрем
десятках новых национальных график (частью рационализованных на основе
прежних систем, частью заново созданных) бывших «инородческих»
народностей, каковы, напр., мордовская, вотская, марийская, чувашская,
якутская (первая из турецких латиниц, родившаяся в «Якутском букваре»
уже в ноябре 1917г.), татарская, узбекская, туркменская, казакская
(наилучшая иа турецких график на основе арабского шрифта), киргизская,
азербайджанская (знаменитый «Новый путь»), карачаевская, ингушская,
чеченская, кабардинская, черкесская, абхазская и т. д. и т. д.
Итак,
в области графики мы имеем вполне реальные продукты революции — факты
бесспорного значения (ибо от рационализации графики зависит громадная
экономия времени и труда начальной школы, успехи ликвидации
неграмотности, а следовательно, вообще все дело культуры данной
национальности), и было бы вполне благодарной и уже своевременной темой
— подвести итоги достигнутого в этой области (в графических реформах у
нацменьшинств нашего Союза) за десятилетие революционной эпохи.
Но
это — в области графики. А в чем влияние революции в области языка, как
такового, т. е. системы устной речи (причем сначала мы зададим этот
вопрос только относительно русского языка)?
На этот вопрос ответ
гораздо труднее, и даже — насколько можно заключить из сравнения бывших
на эту тему статей и докладов — ответ получается далеко не однородный,
именно: колебание мнений имеет место даже по двум основным вопросам: 1)
имеются ли языковые факты, появившиеся — в известных областях языковой
системы — в русском языке впервые за последнее десятилетие? и 2) какие
из этих фактов мы можем приписать влиянию революции?
На это
лингвисту прежде всего следует указать, что язык (система устной речи)
есть стихия, гораздо более консервативная и в основных своих элементах
— кроме словаря (т. е. в фонетике, морфологии и синтаксисе) — почти не
поддающаяся (или, во всяком случае, гораздо менее, чем графика,
поддающаяся) воздействию организованного управления. Действительно, для
того, чтобы в языке произошло то или иное фонетическое (напр., замена
одного звука другим в ряде слов) или морфологическое (напр., утрата
среднего рода или грамматического рода вообще) изменение, совершенно не
достаточно декретировать это изменение, т. е. опубликовать
соответствующий декрет или циркуляр. Можно, наоборот, даже утверждать,
что если бы подобные декреты или циркуляры даже и опубликовывались бы
(каким-либо лингвистически наивным правительством), ни один из них не
имел бы буквально никакого результата: никто не стал бы менять звуки в
произносимых им словах, никто бы не отказался от грамматического рода —
это совершенно несомненно, и именно потому, что родной язык выучивается
(в основных своих элементах) в том возрасте, для которого не существует
декретов и циркуляров.
II
Словарь (запас слов языка) —
другое дело, ибо словарь данного конкретного языкового мышления
накопляется постепенно — по мере обогащения данного индивидуума запасом
новых понятий. Поэтому формулировка словаря — более чем какого-либо
другого элемента языковой системы — принадлежит также и взрослому
возрасту; поэтому словарь наиболее может отражать
общественно-культурные сдвиги (сопровождающиеся привнесением в круг
коллективного мышления ряда новых понятий, для которых нужны новые
слова).
Поэтому-то как раз в области словаря мы и имеем наиболее
бесспорные результаты воздействия революции на язык. О них-то мы и
будем говорить в следующих главах.
А пока зададим все-таки
вопрос: неужели в области фонетики, морфологии и синтаксиса все-таки
так и приходится отрицать влияние революции?
Отнюдь нет. Можно
указать причину, почему фонетических и морфологических изменений (они
ведь бывают во всяком новом поколении, только обыкновенно в такой дозе,
что при сравнении двух смежных поколении их усматривается чрезвычайно
немного, и разительные различия накопляются лишь за период в несколько
поколений) в языке поколения, принадлежащего (по годам обучения речи) к
революционной эпохе, будет не в пример больше, на много больше, чем у
поколений предшествовавших. Основания для этого следующие.
Усиленный
темп языковой (фонетической, морфологической и т. д.) эволюции
вызывается количественным и качественным изменением контингента
носителей данного языка (т. е. его человеческого коллективного
субстрата1), наиболее сильная нивелировка языка и упрощения в нем (к
упрощениям ведь в сущности сводятся все нормальные изменения в языке2)
происходят тогда, когда к участию в данном языке привлекаются новые (в
особенности же иноплеменные, владеющие одновременно или владевшие до
сих пор другим языком) группы населения, и чем больше привлекается
таких групп, и чем, с другой стороны, они разнороднее между собой (хотя
бы по характеру тех языков, которыми они владели раньше), тем больше
бывает новшеств (т. е. изменений). А как раз самое главное, что мы
находим в языковых условиях революционной эпохи, это — крупнейшее
изменение контингента носителей (т. е. социального субстрата) нашего
стандартного (или так называемого «литературного») общерусского языка
(в основе которого лежит московский говор), бывшего до сих пор
классовым или кастовым языком узкого круга интеллигенции (эпохи
царизма), а ныне становящегося языком широчайших — и в территориальном,
и в классовом, и в национальном смысле — масс, приобщающихся к
советской культуре.
Итак, почва для усиленного хода языковой
(фонетической, морфологической и всякой иной) эволюции в революционный
период самая благоприятная.
Почему же тогда мы не можем
констатировать фонетических или морфологических отличий между языком
1926 и языком 1915 или 1913 годов, если не говорить о таком
единственном фонетическом новшестве у нынешнего молодого поколения,
как, замена «г» проточного в словах «бога», «благо» и т. д.
обыкновенным «г» смычным (причем это-то новшество меньше всего можно
относить за счет влияния революции)?
Да потому, что для формации
языка революционного поколения нужно иметь налицо поколение, выросшее в
революционную эпоху, т. е., иначе говоря, нужно время. А пока мы можем
только наблюдать целый ряд индивидуальных новшеств, из которых еще не
произведен коллективным мышлением отбор черт, способных (как присущие
преобладающему проценту среди данного нового поколения) зафиксироваться
в виде имеющих право гражданства языковых черт.
Отбор же этот
всегда происходит (и тут произойдет) по одним и тем же мотивам
«перевеса большинства»: точно так же, как любое из до сих пор
совершившихся изменений в языке происходило после того как процент
совершивших это изменение детей нового поколения оказывался больше, чем
процент детей, воспринявших язык родителей без данного дефекта, так
путем этого же «перевеса большинства» будут узаконены в языке будущих
поколений те изменения, которые назревают теперь, и назревают в
усиленной дозе, благодаря изменению социального субстрата нашего
общерусского языка.
И строго говоря, лишь через два-три
поколения мы будем иметь значительно преображенный (в фонетическом,
морфологическом и прочих отношениях) общерусский язык, который отразит
те сдвиги, которые обусловливаются переливанием человеческого моря —
носителей общерусского языка в революционную эпоху.
Вот почему
сейчас рано еще говорить о коллективных новшествах в нашем языке, за
исключением области словаря и фразеологии (нужно оговориться, что
фразеологию я буду относить к словарю в широком смысле этого слова).
Итак,
обратимся теперь именно к этой наиболее быстрочувствительной области
языка — к словарю и попробуем вглядеться в его новшества за
революционную эпоху.
Обращаясь к новшествам в области словаря,
нужно указать на две главнейших предпосылки, обусловливающих появление
таких новшеств в нашу эпоху. Это:
1) наличие большого числа
новых понятий (прежде всего политических, а затем и общенаучных — ввиду
повышения массового развития), привносимых в эпоху революции в
коллективное мышление людей, пользующихся общерусским языком; появление
же массы новых понятий предъявляет спрос на массовое творчество новых
слов (ибо, но законам экономии языка, каждое часто фигурирующее в
данном коллективном мышлении понятие уже не может выражаться длинным
словосочетанием — вроде «Совет рабочих и крестьянских (или солдатских)
депутатов», а требуются выражения одним словом: будь то «Совет» или
«Совдеп» и т. д.). Как мы увидим, этот массовый спрос на новое
словотворчество не только увеличил производство новых слов по старым
рецептам словообразования, но и создал новый — революционный прием
словотворчества (типы: «Совнарком», «эР-эС-эФ-эС-эР» и «нэп»);
2)
изменение социального состава носителей общерусского или литературного
языка (бывшего до революции принадлежностью исключительно
интеллигентских слоев); ввиду вхождения в число носителей общерусского
языка массы лиц, принадлежавших доселе к иным социальным группам, а
также ввиду учащенных соприкосновений пользующихся общерусским языком с
группами лиц, пользующихся своими «групповыми диалектами», в
общерусский язык входят многие словарные заимствования из этих
групповых — классовых, подклассовых и профессиональных диалектов (как и
наоборот: на словаре «групповых диалектов» отражается словарь
«литературного языка»; но на этом последнем явлении мы останавливаться
не будем, так как оно состоит из массы индивидуальных и мало
долговечных фактов3, которые потому плохо поддаются учету).
Сообразно этим двум предпосылкам, мы и попробуем сгруппировать факты в двух следующих главах: III и IV.
III
Факт
внедрения в массовое мышление новых понятий во время революции не
требует доказательств. Нужна только оговорка, что массово-новыми
понятиями (и словами) мы будем считать и такие, которые и до революции
были известны, но лишь узкому кругу лиц — специалистов или еще более
редким универсалистам, и которые впервые лишь после революции входят в
обиход массового мышления.
Предъявленный в связи с появлением новых понятий спрос на новые слова удовлетворяется следующими тремя главными путями:
I.
Изменением значения старого слова, что мы видим на примере слова
«совет»: в старый термин вложено новое революционное содержание —
«Совет рабочих и солдатских (или крестьянских) депутатов», а именно с
этим значением, т. е. уже новое слово «совет» выходит на международную
арену, попадая из русского языка, языка Ленина, в языки всего мира,
начиная с английского и турецких и кончая китайским («са-юэ-та»).
II.
Заимствованием иностранного слова; при этом обычно слово берется из
того самого языка, который был проводником и для самого данного понятия
(вот почему Европа и Азия берут русское слово для понятия «совет»,
потому что в этой области — области ревгосстроя — Ленин и русский язык
как раз и оказались в роли мирового учителя).
III. Созданием новых слов. Это творчество новых слов может идти:
а)
или традиционным приемом образования сложных слов по общим нормам
русской морфологии (с соединительной морфемой о между обеими
лексическими морфемами и т. д. и т. д.); таково, напр., создавшееся на
глазах моего поколения (в первом и втором десятилетии нашего века)
типичное для вузовского быта слово правоучение («у него не внесено
правоучение»),
б) или же новым, революционным (по времени) и
именно в силу указанного массового спроса — в данную эпоху узаконенным
приемом аббревиации (сокращения). Сюда относятся следующие три главных
типа современных аббревиатур, или сокращений (кроме которых существуют,
конечно, и гибридные, смешанные случаи, наполовину принадлежащие
одному, наполовину — другому типу), исторически восходящие к приемам
телеграфного кода (знакомство с которым возросло в предшествовавшую
революции военную эпоху — вспомним еще тогдашние «Румчерод», «Земгор» и
т. п.):
1) Наиболее распространенный тип — «Совнарком» —
основанный на абсорбции начального (в большинстве случаев)
произносительного отрезка (по преобладающей норме — отрезка в один слог
из согласного, гласного и согласного) от каждого слова из сокращаемого
словосочетания (здесь: Совнарком из словосочетания Совет народных
комиссаров);
2) тип э с-э р (С.-Р.), или эР-эС-эФ-эС-эР (РСФСР),
основанный на абсорбции инициалов (начальных букв) от каждого слова из
сокращаемого словосочетания, — инициалов, произносимых в виде названий
этих букв в алфавитном перечне (а, бэ, вэ, гэ, дэ, е, жэ, зэ, и, ка,
эл, эм и т.д.); это — тип, менее удобный по морфологическим
обстоятельствам, чем первый — именно для русского языка (в
противоположность английскому, где нет грамматического рода и
определенных норм для окончаний именной основы, почему этот тип как раз
в ходу в английском языке: напр., «М. Р.» — читается «эм-пи» — вместо
Member of Parliament «член Парламента» и т.д.): поэтому РСФСР и
переделывается в «Эресэфэсэрию» (чтобы иметь признак женского рода), а
К-Д в «кадет» (чтобы иметь признак мужского рода — окончание основы на
согласный);
3) тип нэп, где абсорбируется тоже инициал
(начальная буква) каждого элемента словосочетания, но не с алфавитным
своим названием, а с обычным чтением, — это обычное чтение получившейся
суммы инициалов (нэп) и представляет собою данное сокращение.
Тип
этот, конечно, мало удобен в фонетическом отношении, так как при
отсутствии слова с гласным инициалом образовать по нему сокращенные
слова совсем невозможно (получаются фонетически непереваримые комплексы
вроде СЗКГХ, ПБСК, ЖМПМБС и т. д.).
Кроме того рецепт первого
типа (Совнарком) оказывается более пригодным для массового пользования
— ввиду того, что он основан не только на графических, но и на
произносительных представлениях сокращаемых слов.
Более
подробный анализ этих трех типов и параллели к ним (из других
литературных языков, а также из самых естественных эволюции устной речи
-- вплоть до слоговой абсорбции в русских ласкательных именах — вроде
«Шура <- Сашура <- Саша <- Алексаша <- Александр, Нюра
<- Анюра <- Аня <- Анна») даются мною в другой статье4, и
здесь я ограничусь вышесказанным. Добавлю только, что дурно или хорошо
с эстетической точки зрения (о чем предоставляется судить
специалистам-эстетам, а не лингвистам), но вышерассмотренные сокращения
выполняют свою задачу, давая русскому словарю экономные и большею
частью удобные слова для новых понятий, а потому всякого рода
теоретические возражения против них, по моему мнению, излишни.
IV
На
очереди теперь вопрос о заимствованиях из групповых (классовых,
подклассовых, профессиональных) диалектов в наш общелитературный язык.
Социальные условия революционного периода для этого, мне кажется, не
нуждаются в особом перечислении.
Остается подтвердить это
положение фактическим материалом, что, по-моему, не трудно было бы
сделать в коллективной работе — возьмем ли мы какой-либо особый стиль
литературного языка или же общий перечень слов (словарь, в буквальном
смысле), потенциально употребимых ныне в стандартной речи.
В частности, в стандартный словарь проникают элементы следующих классовых и профессиональных диалектов:
1) словаря фабрично-заводских рабочих,
матросского
словаря (что не трудно себе объяснить, если мы вспомним ту роль
проводников революции, которую сыграла «морская братва» в самой толще
нашего, главным образом провинциального населения),
3) деревенского — крестьянского словаря,
4)
«блатного» жаргона людей темных профессий (сюда относятся, напр., липа
и прилагательное липовый5, глаголы хрять, зекать и т. д., которые
сейчас далеко вышли за первоначальный круг их носителей).
Вот
тот перечень, который можно сделать по моим наблюдениям; весьма
возможно, что его следует и расширить. Но, во всяком случае,
большинство новшеств данного порядка (заимствований из классовых и
профессиональных диалектов) вольется в вышеуказанные рубрики.
V
Перейдем теперь к фактам других (не-русских) языков Союза ССР.
В
значительной мере мы встречаем здесь то же положение дела, что и в
области русского литературного языка, но в известных областях факты
носят здесь еще гораздо более яркий характер, и влияние революционной
эпохи сказывается с наибольшей силой.
Так, если отражение
Октябрьской революции в сфере русской графики, т. е. русская
«орфография 1917 года» является не более как реформой в буквальном
смысле этого слова (т. е. упорядочением или улучшением прежде
существовавшей системы), то у многих нацменьшинств Союза созданное
революционной эпохой письмо означает часто гораздо большее — не
улучшение, а прямо создание национальной графической культуры (а вместе
с нею и литературного языка и литературы); в частности так обстоит дело
у якутов (являющихся, бесспорно, передовым и наиболее радикальным из
наших сибирских народов в деле графической культуры), у которых до
появления новой латинизированной графики (так называемой
«Hoвгopoдoвской6 транскрипции») в 1917 году не существовало ни более
или менее распространенного в массе алфавита (если не считать русской
миссионерской транскрипции), ни национальной литературы (если не
говорить о народном устном творчестве, которое стало записываться
местными работниками опять-таки лишь в эпоху «якутского национального
возрождения», т. е. после 1917 года). Иначе говоря, у якутов (как и у
ряда других, стоявших в аналогичных условиях народностей, напр., у
яфетических кавказских) создание национальной графики, принятой к
обязательному изучению в школе, открывает собою новую страницу
культурной истории народа, с которой, собственно, только и начинается
его национальная культура (с письменностью, литературой, краеведением и
школой на родном языке; все это было бы невозможно при отсутствии
такого необходимейшего орудия духовной культуры, как национальное
письмо).
Я нисколько не боюсь упрека в преувеличении, если
сравню коллективную работу, проделанную и проделывающуюся сейчас в
разных углах СССР, с прославленной деятельностью Кирилла и Мефодия, за
которую эти два почтенных ученых своего времени удостоились и чина
канонизированных святых и ряда монографических исследований со стороны
новейших ученых; скажу даже больше: что результаты работы современных
нам якутских, азербайджанских, чеченских, ингушских и т. д. «Кириллов и
Мефодиев» будут не в пример более плодотворны, ибо открывают путь не к
религиозной культуре Х века, а к советской культуре в ее национальных
формах.
Тесно связанные с Октябрьской революцией, эти
«графические революции» выполнили (или выполняют) весьма серьезную
задачу демократизации национальных письменностей, — а следовательно, и
культур — путем радикального «режима экономии» в отношении времени и
труда, тратимых и учащимися и учащими в обучении родной грамоте (ибо
уничтожение излишних, ничем не оправдываемых и ничем, кроме
исторической инерции и традиционности, не объяснимых трудностей письма,
намного7 — в известных конкретных случаях во много раз сокращает время
начального обучения, чем, конечно, оказывается наилучшая из возможных
помощь ликвидации неграмотности, — тому наиважнейшему делу, от которого
зависит все будущее нашего Союза).
Итак, я вовсе не переоцениваю значения графических реформ у наших нацменьшиств.
Эта
общая оценка явления вовсе не значит, однако, что я считаю нынешнее
положение дела у всех принявшихся за реформу национальностей блестящим
и самые реформы идеальными. Даже в лучших случаях, как, напр., в
образцовом разрешении вопроса о рационализации прежнего арабского
алфавита у казаков (и вслед за ними у киргизов), мы видим, что этого
вполне удовлетворительного состояния их графика достигла лишь в 1924
году, т. е. после целого ряда лет менее удачных опытов. И в то же время
это еще не конечный пункт, а лишь переходный этап реформы, ибо вслед за
тем выбирается совершенно новый путь (новое русло) реформы —
латинизация. Равным образом, и в весьма и весьма рациональной «якутской
латинице» (так называемой «Новгородовской транскрипции») мы имеем
некоторые детали, которые можно было бы заменить другим, технически
менее трудным выбором знаков.
А что же сказать про худшие случаи
алфавитов? — Про те алфавиты, которые в настоящей своей форме (1926 г.)
еще не избавились от ряда довольно значительных недочетов (каковы,
напр., многие латинские алфавиты яфетических народностей Кавказа, а
также, в известной степени, восточно-финские алфавиты на основе
русского шрифта и даже некоторые из турецких, напр., «туркменская
орфография 1925 года», сделавшая шаг назад по сравнению с «Гельдиевской
туркменской азбукой 1924 года»).
Рассматривая свою деятельность,
коммунистам отнюдь не пристало рисовать ее в ложно-розовом свете и
замалчивать дефекты там, где они есть, да мы и заранее должны знать,
что ни одно массовое меронрятие не может быть с равной степенью
успешности в один и тот же срок проведено по всей территории Союза. И
графическое обновление всего Союза, конечно, не есть дело одного-двух
лет или одной ударной кампании. За первое десятилетие революции в
графике нацменьшинств и так сделано много; но одни народности сильно
продвинулись вперед, другие же отстали (конечно, по вполне определенным
культурно-историческим их условиям). И, однако, то, что сделано,
позволяет нам сказать с уверенностью, что к концу второго десятилетия
(к 1937 году) отставших уже не будет.
Выбор того или другого
пути графической реформы (напр., или в виде упорядочения старой
системы, или, наоборот, в виде перехода к совершенно новому, латинскому
шрифту) вполне определяется, конечно, культурно-историческими и
географическими условиями данной национальности к моменту реформы.
Вполне ясно, напр., почему немусульманский (а потому и не ведавший
арабского алфавита) турецкий (т. е. «тюркский») народ — якуты — прямо —
и уже в 1917 году — сделали смелый шаг в будущее, к латинскому, т. е. к
наиболее интернациональному письму: якутам просто не было чего
выправлять (за исключением миссионерских русских транскрипций; но от
этой попытки их должны были удержать те политические ассоциации,
которые связывались с этим орудием обрусения и царской политики и
которые никак не могли связать миссионерский алфавит с революционным
делом создания письменности и школы на родном языке); вот почему у них
и была открыта дорога к латинице8.
Точно так же ясно, что,
наоборот, те турецкие народы, которые — благодаря исламу — издавна уже
пользовались арабским алфавитом и имели на нем в одних случаях более, в
других — менее значительную литературу (каковы, напр., татары и
среднеазиатские турки, напр., узбеки, казаки, туркмены), поставили себе
задачей, по крайней мере для первого этапа реформы, упорядочение (и, в
частности, фонетизацию) этого своего традиционного письма арабскими
буквами. Так вырастает ряд усовершенствованных мусульманских алфавитов,
достигающих наибольшего совершенства у казаков с киргизами9 и у татар.
И
с третьей стороны, понятно также, почему те из вышеупомянутых
мусульманских турецких народов, которые истратили больше всего энергии
на только что названный вид реформы (упорядочение своего арабского
алфавита), именно татары и казаки, изъявляют меньшую готовность сменить
это свое, только что выработанное письмо (мусульманский алфавит) на
новейший вид реформы — латинизацию. А впереди всех латинизаторов идут —
из мусульманских турецких народов — именно азербайджанцы, которые к
реформе своей арабской письменности почти вовсе не приступали.
Так
могут найти свое объяснение и все разновидности реформы — вплоть до
сложного случая сосуществования двух официально признанных график:
реформированной арабской и новейшей латинской (в исполнение
постановления I Туркологического съезда в феврале 1926 г.), что мы
наблюдаем, напр., в настоящее время у узбеков и туркмен.
Обращаясь
же к народностям не-турецким, укажу на специфическую особенность
восточно-финских график (двух мордовских, вотской, марийской, зырянской
и пермяцкой): они основаны не на латинском, а на русском алфавите; дело
объясняется географическим и культурным русским окружением этих
народностей (в большинстве своем двуязычных, т. е. знающих кроме
родного языка и русский); вот почему в этом отношении вместе с
восточно-финнами идет (т. е. пользуется русским шрифтом) и один из
турецких (по языку) народов — чуваши: культурные и географические
условия (благоприятствующие сильнейшему влиянию русской среды) у
чувашей, в общем, те же, что и у восточных финнов (и совсем не те, что
у мусульманских турецких народов).
Что же касается народностей
иранской языковой семьи (разумеется, в пределах СССР), то о них нельзя
сделать никакого общего вывода, так как эта семья на территории Союза
представлена почти исключительно двумя совершенно различными по
культурным условиям (и географически совершенно не соприкасающимися)
народами: осетинами (которые пользуются уже вполне разработанной
системой латиницы) и таджиками, у которых практическое осуществление
графической реформы10 еще вовсе не начато (было только теоретическое
обсуждение проекта, выдвинутого в сентябре 1926 года)11.
В столь
же почти различных условиях стоят обе монгольские народности, живущие в
СССР: калмыки и буряты; в то время как у первых привилась уже (в замену
старой, азбуки Зая-пандиты, XVII века) русская транскрипция (правда,
далеко еще не совершенная), у бурят к практическим мероприятиям еще не
приступлено.
Остается сказать о яфетических народностях Кавказа
— имея в виду не грузин, у которых (как и у армян12) существует уже
многовековая (гораздо более древняя даже, чем у русских) литературная
традиция и вполне выработанный литературный язык, а доселе
бесписьменные или почти бесписьменные (весьма многочисленные) языки:
абхазский, черкесский, кабардинский, лезгинский, чеченский, ингушский,
лазский (чанский), сванский, мингрельский, аварский (служащий, между
прочим, для общения целого ряда мельчайших дагестанских народностей,
обладающих, кроме того, каждая своим языком) и т. д. Уже в силу этого
языкового многообразия на Кавказе графический вопрос гораздо более
болезненен, чем у других, — напр., у турецких народов, и поэтому, а
также по ряду других причин, процессы создания национальных график в
большинстве случаев не достигли еще удовлетворительного вида. Тем не
менее, у многих из названных народностей уже сделан переход к
латинскому шрифту. Их «латиницы», правда, зачастую заставляют желать
много лучшего, а потому оказываются и недолговечными: на смену одному
проекту принимается другой и т. д. Эта смена «орфографий», конечно,
вредно отражается на работе школы и грамотности населения. Но что
делать? Пока не создан компетентный центральный орган (место которому,
очевидно, в Ростове, если не в Москве) для руководства графическими
мероприятиями по языкам Северного (главным образом) Кавказа, до тех пор
указанный калейдоскоп алфавитов — явление неизбежное для того, чтобы
выявить в конце концов на почве массового (хотя и слишком дорого
стоящего) опыта нужную для данного языка графическую систему13.
Остается сказать о самом литературном языке у нацменьшинств Союза и о воздействии на него политического фактора — революции.
Как
и в вопросе о графике нацменьшинств, так и тут мы встретим, во многих
случаях, еще более тесную зависимость между революцией и языковыми
явлениями, чем в русском литературном языке, и еще более яркий характер
относящихся сюда фактов. Это именно потому, что ряд литературных или
письменных языков, оказывается, вовсе не существовал или был в
зародышевом существовании до революции; революция, оказывается, у ряда
народностей вызвала к жизни и национальную графику и литературный язык
(якуты, ряд кавказских народностей и т. д.; почти в таком же положении
многие из восточно-финнов).
Характер созданных таким образом (в
революционную эпоху) литературных языков бывает в значительной мере
разнообразным — в зависимости от специфических культурных условий
данной нации. Но все же можно отметить и известный ряд постоянных (для
многих литературных языков) признаков — признаков литературных языков
современной эпохи у не-русских народностей Союза.
К ним будут относиться (из области словаря и фразеологии14):
1.
Сильнейшее влияние русского словаря, главным образом в области
политической и научно-технической терминологии, а также нередко и в
области фразеологии и даже (в языках, представители которых являются
часто двуязычными, как, напр., восточно-финны) в области синтаксиса. В
состав русской терминологии проникают — наряду с чисто-русскими по
происхождению словами и даже количественно часто опережая их —
иностранные элементы русского словаря (латинские, греческие и иногда из
новых европейских языков), а равно и новые сокращения (типов
«Совнарком, С-Р., нэп»). Последние заимствуются, однако, не в виде
самого рецепта словообразования, но как ряд именно данных русских
сокращений (совдеп, Совнарком и т. д.); производство же своих, туземных
аббревиатур по подобию русских нормально отсутствует; исключение
представляют лишь такие языки с высоко развитой графической культурой,
как грузинский и армянский (у которых исторические и
историко-литературные данные, обусловливающие гибкость
словообразования, в общем, столь же, если не более, благоприятны, чем в
русском). Размеры русского (включая и русскую иностранную терминологию)
словарного влияния видоизменяются в зависимости от характера контакта,
существующего между данным языком и русским: если русский язык, в
общем, чужд как разговорный язык данной национальной массе, то
проникновение русских заимствований ограничивается лишь именно
специфическими новыми терминами для новых понятий (напр., названиями
современных учреждений или политическо-научными терминами вроде
«революция», «капитализм», «милитаризм», «империалисты» и т. п.).
При
этом, хотя известная часть этих терминов (напр., названия учреждений) и
может проникать в данный национальный язык путем устного заимствования,
основной их источник все-таки — письменные переводы с русского на
данный литературный язык. Именно тогда, когда переводчик не находит
соответствующего термина в родном языке (где он и не мог ожидать найти
данное соответствие, потому что его словарь не обладал до сих пор
данным понятием), там и совершается сама собою пересадка русского
термина.
Количество русских заимствований сильно колеблется в
зависимости от географических и культурных условий данной
национальности: наибольшее число русских элементов современного словаря
наблюдается, напр., в восточно-финских литературных языках (обоих
мордовских, марийском и т. д.), а также у чувашей, что объясняется,
конечно, сильной степенью их обрусения и двуязычности (при окружении
русским населением). Значительно меньший процент их мы находим у прочих
турецких народностей, причем из них больше всего пользуются русской
терминологией татары, что опять-таки вполне понятно из их
географического положения.
Частичное противодействие массовому
внесению русских слов оказывается у турецких народов — в тех случаях,
когда их литературный язык (существовавший уже до революции) обладает
значительным числом «научных» слов арабских и персидских (проникших в
предшествовавшие эпохи под напором влияния мусульманской культуры). И в
таких случаях литературный словарь (напр., у узбеков, туркмен и до
известной степени у казаков) представляет собою арену соревнования
(конкуренции) русской и арабско-персидской культур15.
Только это
соревнование осложняется (в особенности у казаков) вхождением третьего
элемента в продукцию новых слов — терминов, создаваемых уже из своих
собственных, турецких основ. Этот третий источник новой терминологии
является при этом сознательно покровительствуемым в силу поднятия
национального самосознания, столь окрепшего у среднеазиатских турецких
народов в наш революционный период. Особенно ярко сказывается это
течение в пользу создания своей подлинно-турецкой терминологии (т. е.
определенный национальный пуризм в лексическом вопросе) у казаков и
киргиз (которые, кстати, меньше других среднеазиатских турок
подверглись арабскому и персидскому влиянию).
И с точки зрения
целесообразности нам нельзя, разумеется, не приветствовать этот пуризм
(представителем которого можно считать, как я указал, казаков), ибо от
создания новых терминов из родных, общепонятных турецких корней данный
литературный язык (проводник революционной культуры) обещает быть
гораздо ближе и понятнее массам данной национальности.
До
крайностей здесь доходить, конечно, не следует, да до них никто пока и
не доходит: никто, даже казаки и киргизы не считают нужным перевести на
свои основы такие международные слова, как телефон, автомобиль и т. п.
И мы увидим, что эти исключения сознательно учитываются, если обратимся
к теоретической программе тех органов, которые руководят (в
Казакистане, Узбекистане и других республиках) терминологической
работой (каковы Акцентры этих республик): напр., постановление Акцентра
Узбекистана гласит: «Термины научно-технические создаются, по
возможности, из корней узбекского языка, для чего привлекаются не
только слова, принадлежащие литературному и городскому узбекскому
языку, но и термины, известные лишь в диалектическом употреблении (для
чего ведется специальная работа по собиранию народной терминологии),
чтобы в будущем общеузбекском словаре были выявлены все потенциальные
богатства родного языка. Исключения допускаются для слов международного
употребления, каковые вносятся в узбекский язык без перевода».
В
тех же случаях, где перевод термина оказывается практически
неосуществимым, берется или русское (в том числе латинское или
греческое по своему происхождению и т. д.) слово или же арабское (или
персидское), но — по пожеланию Акцентра — лишь в том случае, если
данная арабская (или персидская) основа уже известна в данном своем
значении массовому языку (а не является достоянием лишь узкого круга
знатоков старых литературных произведений).
И в этом
принципиалыюм отказе от излишней «арабщины» мы, конечно, можем
констатировать попытку избавить новый терминологический словарь и от
той специфической религиозно-культурной окраски, которая ассоциируется
с большинством прежних «серьезных» (т. е. литературных) слов арабского
(и персидского) происхождения.
2. Стремление приблизить новый
литературный язык к образцам массовой разговорной речи, т. е. ввести
разговорною речь в литературный обиход — в противовес тому
искусственному характеру письменного языка, который воспитывался
литературной традицией и таит в себе зачастую наследие иной, отличной
от современных народных масс диалектической среды (так, в письменном
языке и у узбеков, и у туркмен, и у казаков наблюдались черты, вполне
чуждые их живой речи и являющиеся наследием старого литературного языка
— чжагатайского).
Конечно, эта черта имеет место только у языков, имевших литературную традицию и дореволюционной эпохи.
3.
В нередких случаях имеет место также сознательное желание избавить
словарь литературного языка от тех бытующих в языке терминов, с
которыми ассоциируется окраска религиозного мировоззрения (хотя бы само
значение этих терминов и не относилось к специально религиозным
понятиям); это можно, напр., отметить в языке современных калмыцких
авторов (и переводчиков с русского) — в виде попытки избавляться от
элементов буддийской терминологии (что вполне, конечно, не может
удаться ввиду чрезвычайной насыщенности калмыцкой духовной культуры
буддизмом) или же, с другой стороны, в литературном языке мусульманских
турецких народов, напр. узбеков, по отношению к арабским терминам,
фигурировавшим в литературе богословия, суфизма, шариата16.
Отметив
вышеуказанные общие явления в быту литературных языков современности,
нужно, однако, указать, что не все наблюдаемое в их развитии можно было
бы признать правильным н желательным. Так, говоря о первом из названных
явлений — русицизмах в национальных литературных языках, нельзя
умолчать, что в ряде случаев (особенно в восточно-финских языках, в
частности в переводной с русского литературе) эти русицизмы являются
крупным злом:
1) потому что при своем обилии (когда бывает,
напр., что идут подряд три русских «иностранных» слова, совершенно
непонятных для массы) они делают книгу непонятной для массового чтения;
2) потому, что они часто качественно не выдерживают критики, противореча обязательным для данного языка нормам.
Сюда
относятся и случаи механической пересадки русского синтаксиса (в
мордовский, марийский и т. д. переводный текст): можно встретить,
напр., выражения «Съезд Четырнадцатой партии» вместо «Четырнадцатый
Съезд партии», — все, конечно, потому, что переводчик сохраняет русский
порядок слов, не считаясь с обязательной для финских языков
синтаксической нормой (где определение ставится перед своим
определяемым, а согласование отсутствует).
К сожалению, многие
переводные с русского издания (да и не у одних только восточно-финнов)
пестрят подобными искажениями (не говоря уже о случайных «шедеврах»
нелепости вроде выражения «Буржуазная советская конституция» — в одной
из мордовских брошюр), делая книгу часто почти непригодной для
понимания рядового читателя. Объясняется это (временное, конечно)
явление отсутствием кадра достаточно подготовленных переводчиков, чего,
впрочем, нельзя было и ожидать при дореволюционных условиях просвещения
«инородцев».
В будущем подобные дефекты, конечно, исчезнут. И
известную долю уверенности в этом, в том, что у наших нацменьшинств
будет советская литература на их подлинном, понятном для массы языке,
дает работа Сталинского коммунистического университета трудящихся
Востока — в той области, которая выполняется его Секцией родных языков.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Или — как мы будем говорить — социального субстрата (данного языка).
2Причем
из изменении звуковых (фонетических) одна часть состоит в упрощениях
звукового состава данных слов, а другая — в упрощениях состава всей
системы звукопредставлений (а сюда входят, между прочим, и такие —
«конвергенционные» — процессы, от которых звуковой состав отдельных
слов может не упроститься, а наоборот осложниться в известных случаях).
3Сюда
относится, например, смешение слов «элемент» и «алимент» (в последнее
время) или понимание слова «элемент» как «враг советской власти» (что
можно было констатировать и языковом мышлении деревни, особенно и
первые годы революции и первые годы «нэпа»), или же из области
фразелогии — следующее, встреченное мною летом 1917 г. у одного
рабочего на уличном митинге, употребление слов «если посмотреть с точки
зрения». Слова эти он говорил тогда, когда ему нужно было выиграть
время для обдумывания дальнейшей фразы, но, произнося «если посмотреть
с точки зрения», он не говорил, с какой именно точки зрения, а просто
так, напр.: «Если посмотреть с точки зрения, то большевики и т. д. и т.
д.». Что же? Подобные явления уродливой пересадки литературного словаря
па почву группового диалекта (а случаи неуродливые мы будем
рассматривать, наоборот, как распространение стандартного словаря на
новые социальные области) суть факты индивидуальные и недолговечные,
потому что они существуют лишь до тех пор, пока их не стер контроль
правильного литературного языка. Рабочий, который говорил «с точки
зрения», но не говорил — с какой, наверное никого не обучил этому
приему, и сам, очевидно, с 1917 г. уже успел отучиться от этого приема.
4 В журнале «Родной язык», No. 1.
5
Слово, объясняющееся, может быть, из выражения: липовый (т. е. не
настоящий) чай. Отсюда липовый вообще начинает значить «не настоящий»,
«поддельный», а отсюда и существительное липа в значении фальшивый
документ и т. д.
6 По имени автора этого алфавита С. А.
Новгородова, безвременно погибшего в 1924 году — после целиком
посвященной просвещению родного народа молодой своей жизни.
7В
качестве аналогии со стороны не лишнее будет указать, что английский (и
американский) школьник тратит лишних два года на преодоление трудностей
английского правописания (и реформа правописания позволила бы,
следовательно, употребить эти два года на приобретение других —
реальных знаний). Положим, английская орфография — на редкость сложная
и путаная (значительно труднее всех других европейских орфографий, в
том числе и французской и дореформенной русской), но все-таки это еще
не крайний случай: японская иероглифическая письменность заставляет
терять на ее преодоление целых шесть лишних лет, т. е., по крайней
мере, 60 000 000 индивидуальных трудовых лет (или, по минимальному
рассчету, 302 400 000 000 лишних индивидуальных трудовых часов) в
течение каждого десятилетия во Bceй Японии. Это трудовое время
расходуется, так сказать, «задарма», в угоду исторической традиции. И
от всего этого может спасти такой простой шаг, как графическая реформа,
пример которой дан за время китайской революции Китаем (уж таков
исторический закон, что только эпоха революции является благоприятным
моментом для революции графической) и виде последнего завоевания
китайского школьника: алфавита «Чжу-инь-цзы-му» (т. е. «Фонетического
алфавита»). Правда, алфавит этот не получил еще всеобщего
распространения или, по крайней мере, не стал еще основным видом
китайского письма, и играет роль вспомогательной графической системы;
кроме того возможно, что это еще не окончательный выбор алфавита, ибо
вместо «Чжу-инь-цзы-му», созданного из обломков начертаний китайских
иероглифов, в будущем Китай предпочтет, м. б., латинскую азбуку, т. е.
алфавит вполне интернационального значения. Но это положение
графической реформы как раз именно и соответствует политичской ситуации
современного Китая, где социальная революция еще далека от своего
разрешения.
8Конечно, известную роль в выборе латинского
алфавита сыграла и личность Новгородова, но лишь только потому, что
выбор Новгородова отвечал тем возможностям, которые предоставлялись
коллективным политическим мышлением якутской среды: массовые чаяния
национального возрождения еще в последние десять лет царизма выдвинули
Новгородова, который со специальной задачей — создать якутское письмо —
поехал в Петербург, кончил там восточный факультет и после этого вполне
сознательно выбрал основу для будущего якутского письма: международный
фонетический алфавит (т. е. алфавит на латинской основе) с некоторыми
условными пополнениями. Однако если бы Новгородов не отражал взглядов
якутской интеллигенции вообще, то его «транскрипция» или просто была бы
забракована, или заглохла бы в скором времени, но не превратилась бы в
подлинное общеякутское письмо.
9Всюду в настоящей статье я
употребляю — в согласии с современной официальной терминологией — слово
<<казаки>> (qazaq) взамен прежнего (существовавшего — и
притом ошибочно — только в русской литературе, но не в туземной речи)
термина «казак-киргизы»; и равным образом слово «киргизы» — взамен
искусственно созданного (русскими) прежнего термина «кара-киргизы». Под
«узбеками» же имею и виду, конечно, как «сартов» прежней
дореволюционной терминологии, так и «собственно узбеков».
10
Таджики пишут традиционным персидским (арабскими буквами) письмом и
притом даже не на своем диалекте, а на обыкновенном литературном
персидском языке.
11Со времени написания этой статьи прошло три
года. За это время уже осуществлена таджикская графическая реформа, и
притом в наивыгоднейшем направлении — в форме непосредственного
перехода к латинице (предугадывая возможность этого шага я еще в 1926
году написал статью «Выгоды выжидательной тактики в деле графической
реформы. По поводу таджикского алфавита»).
12 У армян, несмотря
на огромную старину их графики, революция тоже вызвала к жизни
орфографическую реформу (хотя и не радикального характера).
13Но
облегчить, в известном мере, болезненность этого процесса («калейдоскоп
алфавитов») могла бы и работа Секции родных языков КУТВ — путем оценки
и корректирования национальных алфавитов, в постоянном контакте,
конечно, с руководящими органами на местах (как это уже проводится в
жизнь по отношению к языкам других семейств, напр., по вопросу о
туркменской латинице 1926 года).
14 Так как из области фонетики
и морфологии никаких специфических новшеств (тем более общих для ряда
языков) констатировать, очевидно, еще не приходится (если не считать
результатов возобладания одного диалекта данного языка — в качестве
литературного диалекта — над другими).
15Так, бывает, что и для
совершенно нового, революцией привнесенного понятия выбирается не
русский, а арабский или персидский термин, создаваемый из наличных в
данном турецком словаре арабских и персидских основ — и именно потому,
что эти основы окрашены в данном коллективном сознании окраской,
присущей серьезным научным терминам. Подобные примеры представляют, в
частности, современные узбекские термины арабского происхождения,
употребляемые в совершенно новом политическом значении, — даже, напр.,
для передачи русского «совет» (или совдеп) употребляется арабское слово
шор<)> (оно транскрибируется здесь по своему современному
узбекскому произношению; знак <)> обозначает открытое о — в
отличие от закрытого).
16 Полное освобождение от подобных
элементов терминологии, конечно, и здесь невозможно, из-за чего,
впрочем, нет нужды и беспокоиться: нет никакого вреда напр. в том, что
термин мусульманского права (шариата) — «вакуф» (узб. вахып или даже
вахым — по вульгаризовапному узбекскому произношению) приобрел права
гражданства в узбекском официальном языке и даже в названии учреждения
(Вакуфное управление), и поскольку вакуфы остались в Узбекистане, важно
не то, как они называются, а то, куда идут с них доходы, и если они
идут на советскую школу, а не на постройку мечетей, то, может быть, еще
приятнее называть эти средства «вакуфными»!
Поливанов Е. Д. За марксистское языкознание. М.: Федерация, 1931. С. 73–94.
http://www.ruthenia.ru/apr/textes/polivan/poliv4.htm