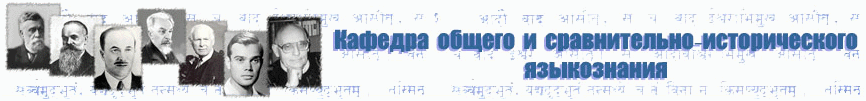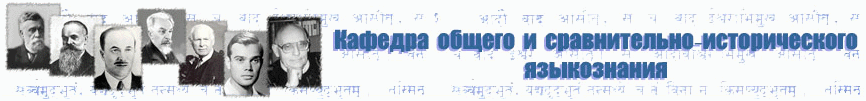Вопрос об истине является одним из самых фундаментальных вопросов,
связанных с употреблением языка. Процесс коммуникации предполагает откровенность
между собеседниками, что логически исключает не только явную, пропозициональную
ложь, но и все остальные виды обмана. Изучение лжи (в широком смысле)
составляет, таким образом, непосредственный предмет лингвистического
исследования, особенно в тех случаях, когда ложь начинает культивироваться как
искусство. Мы как члены общества должны направить все свои силы и знания на
изучение этого вопроса. Отрадно, что в последнее время некоторые лингвисты
начали сознавать это, обратившись к изучению лжи, скрытой в пресуппозициях,
недомолвках и окольных выражениях, а также в стилистически и эмоционально
нагруженных и жаргонных элементах лексики.
В основе настоящей статьи лежит моя президентская речь, произнесенная 28
декабря 1972 года на годичном собрании Американского лингвистического общества.
Основная идея настоящей статьи может быть рассмотрена на примере анализа
выражения, которое впервые прозвучало в 1942 году. В течение почти трех лет, с
1937 по 1939 год, американские добровольцы в числе других сражались в Испании
против фашизма. Когда же водоворот фашистской агрессии в конце концов втянул и
нас, то можно было бы ожидать, что прошедшим через горнило боев
американским воинам воздадут должное за их прозорливость и воспользуются их
опытом. Ничего подобного, однако, не произошло. Более того, их стали называть «незрелыми антифашистами»,
налепив на них один из тех искажающих суть дела ярлыков, на изобретение которых
так горазды специалисты по пропаганде. Признать дальновидность бывших солдат
означало бы признать полное отсутствие дальновидности у всех остальных.
Каждое поколение заново открывает для себя любовь. Точно так же, я думаю,
каждое поколение должно заново открывать для себя жаргон. Л. Э. Сиссмен
определяет жаргон как «все те стилистически сниженные и стоящие особняком слова
и выражения родного языка, которые пытаются скрывать неприятные истины и/или
способствовать успеху говорящего (или не успешному продвижению того вопроса,
дела или продукта, которые говорящий представляет) путем вербальных манипуляций,
жертвой которых оказывается читатель или слушатель» ( Sissman 1972). Оглядываясь
назад, в 1955 год, мы слышим призыв Джеймса Тербера, обращенный к
психосемантикам, а также ко всем тем, кто мог бы разъяснить сущность того, что
Тербер называет «разрушительным залпом словесной артиллерии по крепости
рассудка». Подобный натиск становится возможным лишь благодаря языку,
«преисполненному шума и ярости и ни к чему не испытывающему -уважения» (Thurber
1955). Оглядываясь еще на четверть века назад (этот период совпадает со временем
моего обучения в университете), мы наталкиваемся на книгу Артура Квиллер-Кауча
(Quiller-Couch 1916), в которой содержится его очерк «О жаргоне». Заглядывая в
историю еще на 200 лет назад, Эрнест Гоуэрс в работе 1948 года цитирует указание
министра комиссаров акцизного управления одному провинциальному чиновнику. Оно
гласит: «Внимательно читая ваши донесения, комиссары обратили внимание, что вы
используете большое число эмоциональных выражений и неуместных слов, таких, как
«иллегальная процедура», «гармония» и т. д., причем вы наделяете все эти слова
таким смыслом, которым они не обладают. Вынужден предупредить вас, что если вы и
впредь будете так же варварски обращаться с языком и не откажетесь от своего
аффектированного и мальчишеского стиля, то будете освобождены от выполняемых
обязанностей. Шуты нам не нужны» (Gоwers 1948). Несложно было бы завершить
исторический экскурс цитатами из Эразма Роттердамского и Фукидида.
«Все это очень интересно, — можете возразить вы, — но мы-то здесь при чем?»
Еще не так давно трудно было поверить, чтобы лингвист согласился увидеть здесь
предмет для разговора. Тех из нас, кто пересек «семантическую пустыню» 40 — 50-х
годов, едва ли можно осуждать за возникшее у нас тогда ощущение того, что жизнь
потеряла всякий смысл и всякое значение, кроме разве что дифференциального.
Нельзя сказать, чтобы в то время совсем не было ученых, интересовавшихся
проблемой злоупотребления языковыми единицами. В 1941 году существовала группа,
называвшая себя Институтом по анализу пропаганды (IPA). В число сотрудников
этого института входили, помимо других известных специалистов, такие ученые, как
Клайд Билс, У. Килпатрик и Чарлз Вирд. (Я расцениваю как знамение времени тот
факт, что этой осенью, спустя тридцать лет после приостановки деятельности,
группа по анализу пропаганды вновь стала подавать признаки жизни и призвала к
сотрудничеству лингвистов. Изначально представителей науки о языке в составе
группы не было.) Конечно, примерно в то же время существовала преуспевавшая
школа «общей семантики», в сферу интересов которой входили и указанные вопросы.
Однако ветеранам Американского лингвистического общества не нужно напоминать о
том, что на представителей этой школы смотрели как на лингвистов низшего сорта.
Леонард Блумфилд отозвался о главе школы Альфреде Кожпбском как о гадальщике, и
работы Кожибского, изобиловавшие жаргонизмами, ни в коей мере не способствовали
развенчанию этого впечатления. Таким образом, лингвистическая инженерия (если
воспользоваться уже нашим собственным жаргоном) оказалась полностью
инкорпорированной в такие казенные виды деятельности, как подготовка кадров
военных переводчиков. формирование программ обеспечения грамотности в разработка
языковой политики для развивающихся стран. Деньги закладывались именно в эти
сферы, и именно там развивались события. Лингвист до самого недавнего времени
был для общества более или менее полезным подсобным рабочим, но отнюдь не
социальным критиком.
Я думаю, что мы, к счастью, можем сказать. что подобное равнодушие понемногу
начинает улетучиваться. Мы в некотором смысле повторяем две стадии движения
протеста. Сначала борьба ила за гражданские права. В лингвистике этому
соответствовало изучение особенностей английского языка беднейших слоев
неритянского населения (l3lack English) и испанского языка Гарлема (Harlem
Spanish), укладывавшееся в русло изучения гак называемых «неполноценных» языков.
Сейчас мы уже стоим на пороге того, что в чем-то сродни демонстрациям за мир и
бла'осостояние — а именно мы требуем, чтобы стандарты научного описания этих
языков ни в чем не уступали стандартам описания языков белого населения. В этом
движении нас опережает 1ацпональный совет преподавателей английского языка (The
N ationaJ Council of Teachers of English). Месяц назад, в ноябре этим советом
был учрежден Комитет по изучению общественного лицемерия (Committee on Public
Double-speak); один из членов этого комитета, Уэйн О’Нил, одновременно является
и членом Американского лингвистического общества, так что мы теперь в любой день
можем рассчитывать услышать его проповедь, тем более, что бостонская «Глоуб» в
сообщении о создании Комитета по изучению общественного лицемерия назвала ОНила
«законоучителем». Роберт Хоугэн, ответственный секретарь Национального совета
преподавателей английского языка, выступая в той же «Глоуб», описал задачи
комитета следующим образом: «Вопрос заключается не только в том, согласуются лп
между собой подлежащее и сказуемое, но и в том, согласуются ли между собой
утверждения и факты».
Упомяну также — хотя и подозреваю, что лингвисты в большинстве своем
по-прежнему откажутся принять этот призыв на свой счет, — слова конгрессмена
Роберта Ф. Драйнена, который, обращаясь недавно к преподавателям английского
языка, сказал: «Что же касается вычурности и неестественности официально
принятого стиля, то мне действительно кажется, что вы в определенной мере несете
за это профессиональную ответственность» (Оrinа n 1972: 279). Готовы мы взять на
себя такую ответственность или нет, но нас упорно подталкивает к этому все, с
чем мы сталкиваемся как в своей научной деятельности, так и за ее пределами.
Возьмем, к примеру, грамматику предложения. Ватой золотой жиле осталось не
слишком-то много самородков. Как раз сейчас старатели-лингвисты столпились над
пресуппозициями, абстрактными перформативами и другими средствами, целью (или
результатом) применения которых является именно экспликация того, что
пишущие или говорящие в соответствии со своими интересами сделали незаметным.
Популярностью пользуется изучение контекста, как лингвистического, так и
социального. Мы, кроме того, заново открыли лексику, включая непроходимые топи
коннотаций, эвфемизмов и вообще всякого человеческого крючкотворства. Последним
прибежищем для слабых духом остается, пожалуй, только фонология. Остальным
становится все труднее и труднее отсиживаться в башне из слоновой кости.
Теперь обратимся к событиям, происходящим за пределами лингвистической науки.
Наше правительство — то самое правительство, для которого более чем для
кого-либо характерно злоупотребление языком, — оказывается перед суровой
необходимостью вынуждать к честности население, чтобы взымать с него налоги.
Только таким образом из семейного бюджета могут выжиматься большие суммы денег;
только так, в соответствии с истинно гангстерскими обычаями, могут быть
ликвидированы
26 мелкие предприниматели. Торговые агенты годами взимают с нас
ростовщический процент за предоставляемый кредит, что остается незамеченным в
результате использования ловкого семантического трюка, посредством которого они
объявляются стороной, «несущей расходы». Это же касается и махинаторов,
вымогающих арендную плату, а также малообразованных медиков, рекламирующих
«чудесные» таблетки, применение которых в действительности ведет лишь к
токсикомании — еще одному феномену нашей культуры. Отвечая на это, правительство
сообщает нам правду — в том, что касается кредитов, в названиях, в рекламе. Но
от этого мало проку. Ибо, если мы захотим узнать ту правду, которую
правительство требует oт своих деловых партнеров,— например, узнать, какие
страховые компании в состоянии обеспечить выплату страховой суммы или на каких
автомобильных предприятиях производят надежные трансмиссии, — нам по-прежнему
придется обращаться к помощи суда. И все же положение тех, кто стремится к
сокрытию истины, опасно: вкус правды подобен вкусу крови. Вопрос об истине мог
бы вообще никогда и не подниматься. Однако теперь, когда он поднят, об истине
кричат газетные заголовки, куда соответствующая проблематика была вынесена в
результате борьбы между управляющими и управляемыми. Каждый в этой борьбе
стремится узнать о другом как можно больше: управляющие суют нос в нашу
личную жизнь, вынюхивая настроения, которые могли бы представлять угрозу для
существующей системы контроля, тогда как управляемые направляют свои усилия на
то, чтобы узнать о тех решениях, которые могут идти вразрез с их интересами.
Средством познания всего этого служит язык, и лингвисты оказываются на линии
огня.
Если бы все эти настойчивые и получившие широкое распространение призывы к
правде касались только того, как мы используем язык, то это затрагивало бы нас
не столь непосредственно. Однако данный вопрос имеет отношение и к тому, как
устроен язык, и здесь говорить приходится уже не об аппарате управления, а об
обществе в целом. В одной из своих работ Джулия Стэнли показала, что лексика
английского языка изобилует словами (заимствованными из торговой терминологии),
которые применимы только к женщинам; их эквиваленты, относящиеся к мужчинам,
малочисленны или вовсе отсутствуют (Stanley 1972а). В сходном исследовании Робин
Лакофф (L а k о f f 1973) указала на присутствие
снисходительно-пренебрежительного оттенка. сопутствующего употреблению даже
таких на первый взгляд безобидных слов, как woman женщина и lady леди. Женщины,
равно как и другие «низшие» существа, получают представление о том, каково их
место в обществе, не без помощи каждый из нас может быть несведущ в той или иной
области в вопросах диетического питания, устройства наших электронных
безделушек, тайной бюрократии, пожароопасности зданий, пригодности воды для
питья или значения формы 1040А. Возможности обмана перешли границу допустимого.
Я специально сформулировал определение истины так, чтобы ему соответствовало
то, что, согласно намерению говорящего, должно быть понято адресатом. Если
принимать во внимание социальное окружение, то ни к какому другому определению
нельзя будет относиться всерьез. Уместным описанием фактов являются не
абстрактные предложения, а предложения, взятые в контексте, причем в понятие
контекста входят намерения говорящего. Не в порядке полемики с воображаемым
собеседником, желающим оспорить это положение, а для того, чтобы представить
понятие истины (правды) как можно более точно, я делаю еще один шаг в выбранном
мною направлении и заявляю следующее: все то, что может быть использовано
находящимися в коммуникации сторонами для засорения канала общения и не является
при этом результатом случайности, есть ложь. Не требуя, чтобы она
обязательно была преднамеренной, я тем самым стремлюсь представить ложь в
настолько черном свете, насколько это возможно. Конечно, сознательная и
преднамеренная ложь существует, но бывает также ложь, вошедшая в обыкновение.
Кроме того, есть люди, искренне верящие в утверждения своей собственной
пропаганды, и есть правители, которые в своей деятельности руководствуются
представлениями о маленькой лжи как части большой правды или о том, что
если вы чего-то не знаете, то вам же спокойнее. Таким образом, я считаю, что
ложь бывает не только явной и очевидной, но также скрытой и даже неосознанной. А
вот истина, напротив, всегда основывается на активности говорящего, на его
готовности поделиться имеющейся у него информацией. Для некоторых людей такая
готовность почти что вошла в привычку. И мы по-прежнему стремимся воспитать эту
привычку в своих детях, общаясь с ними в своем небольшом домашнем кругу. Сейчас,
как мне кажется, я готов объясниться с теми лингвистами, которые хотят сохранить
научную целостность своих исследований. Я снова цитирую Робин Лакофф: «Для того,
чтобы правильно предсказать применение тех или иных грамматических правил, мы
должны быть в состоянии учитывать социальный контекст высказывания, равно как и
другие скрытые допущения ( Lakoff 1972: 90l). как я уже отмечал, для понятия
истины значимой является такая характеристика социального контекста, как наше
намерение поделиться тем, что мы думаем или знаем; эта установка отражается в
выборе слов, а зачастую и в выборе грамматических конструкций. Она
предопределяет сам факт существования огромной части лексикона и объясняет, по
крайнеё мере частично, удивительную живучесть некоторых конструкций. Позвольте
мне начать с некоторых примеров из грамматики. В современных исследованиях
нередко анализируются предложения с опущенными элементами и мои первый пример
тоже будет на опущение перформативного глагола. В скобках замечу,. что если вы
предпочитаете считать, что перформатив вставлен. когда он есть, а не опущен,
когда его нет, то это дела не меняет, поскольку никто не сомневается в том, что,
когда перформативные глаголы все-таки присутствуют, они дополнительно
проясняют смысл высказывания. Возьмем, к примеру, случай, когда кто–нибудь из
сильных мира сего говорит нечто вроде America is lagging behind Russia in arms
production Америка отстает от России по производству оружия. Если говорящий при
этом не ссылается ни на какие свидетельства, нам остается только принять его
слова на веру. Но если он говорит, допустим, 1 think that America is lagging
Я думаю, что Америка отстает или Му chief of staff informed me Мне
сообщал об этом начальник штаба или I ’ ll just bet America is lagging готов
поспорить, что Америка отстает, то тем самым появляется некоторая мерка,
позволяющая судить о том, насколько честен говорящий в оценке достоверности
сообщаемых сведений. По сравнению с опущением ряда других элементов, отсутствие
перформатива являет собой один из самых безобидных случаев обмана. Это всего
лишь «игрушечное ружье в арсенале лжеца, поскольку до тех пор, пока пропозиция
подается впрямую, окружающие всегда могут проявить достаточно скептицизма и
попросить говорящего — независимо от того, присутствовал в высказывания
перформатив или нет, — доказать утверждаемое. А вот если опускается менее
заметный элемент, то сомнительная пропозиция уже может проскользнуть
незамеченной. Случаи подобного рода вызывают в последнее время большой интерес
со стороны лингвистов. Здесь особо надо упомянуть об исследованиях Джулии
Стэнли, посвященных тому, что она называет «эксплуатацией синтаксиса» (например,
Stanley 1972Ь).
Мой первый пример подобного рода касаетсяопущения указания на агенса в
пассивных конструкциях, Этим приемом часто пользуются при изощренной передаче
слухов. Так, говорящий может избежать соблазна воспользоваться конструкцией They
say говорят (букв. они говорят), поскольку не исключена возможность, что
в ответ на эту реплику дотошный собеседник поинтересуется Who ’ s they ? Кто
говорит? (букв. Кто они?). Вместо этого говорящий просто употребляет
перформативный глагол в пассиве и уже спокоен относительно дальнейших
расспросов. В нашей культуре этот прием обычен в газетных заголовках. Например,
между хирургом Шафнесси и его бывшим пациентом возникла конфликтная ситуация.
Шэнкс утверждает, что Шафнесси наложил ему после операции швы, забыв перед этим
вынуть тампоны и скальпель. Шафнесси заявляет, что это гнусная ложь. В
зависимости от того, чью сторону займет редактор газеты, заголовок будет звучать
или как Shaughnessy charged with malpractice Шафнесси обвиняется в преступной
небрежности или как Shanks charged with slander Шэнкс обвиняется в клевете. При
этом в обоих случаях читатель приглашается к тому чтобы заполнить агенсную
позицию путем указания более чем более чем на одно лицо. В результате возникает
впечатление гораздо большей, чем на самом деле виновности той или другой
стороны.
Существуют и другие, гораздо более тонкие случаи опущения агенса. Так, в
одной из своих работ Стэнли (Stanley 1972с: 19) приводит отрывок из
Достоевского, в котором восемь раз подряд употребляются пассивные конструкции с
незаполненной агенсной позицией, что способствует созданию картины «безликого
общества, в котором человек не наделен никакой реальной силой, и все действия.
затрагивающие граждан, осуществляют некие безымянные, безличные „они"». В той
мере, в какой мы принимаем такую точку зрения, употребление пассивных
конструкций предстает как весьма удобный прием для передачи различного рода
ложной информации.
Другой пример, который приводит Стэнли, касается пассивных причастий. Когда
мы слышим такие высказывания, как In the 5th century the known wor l d was
limited to Europe and smallparts of Asia and Africa В Ъ веке изведанный мир
ограничивался Европой и небольшой территорией Азии и Африки, то, если вдуматься,
становится непонятно, что имеется в виду под «изведанным миром». Изведанный кем?
Поскольку составляющая the known world изведанный мир является «синтаксическим
островом», вопросы к.ней не задаются, и мы можем безнаказанно проигнорировать
три четверти населения земного шара. Согласно формулировке Стэнли. «наше
внимание фокусирутся на главной предикации» (Stanley 1972 b ) так что мы можем
усомниться в точности утверждений, касающихся географических сведений, но не в
том, насколько точны данные об обладателях этих сведений. Когда в Омахе в связи
с принятием экологической программы «Царство диких животных» (31 декабря 1972
года) с гордостью объявляют, что «человек берет под защиту животных, находящихся
под угрозой истребления», то тем самым делается предложение открыть
кредит человечеству как известному своей надежностью клиенту, не лишая
одновременно его такового кредита на том основании, что угроза диким животным от
него же и исходит.
Дональд Смит приводит еще один пример эксплуатации синтаксиса, который он
называет «опущением экспериенцера». Наиболее типичными примерами здесь служат
предложения с глаголом seem казаться, представляться. Смит отмечает, что
подобные предложения «популярны в некоторых письменных и устных текстах —
например, тех, которые принадлежат бюрократам, педагогам-теоретикам и всем тем,
кто хотел бы скрыть источники импрессионистских суждений о мире» (Smith 1972:
20) . Смит приводит следующий пример из книги известного психолога Б. Ф.
Скиннера «По ту сторону свободы и достоинства»: The need for punishment seems to
have the support of historv Представляется, что необходимость в наказаниях
является исторически подкрепленной. Представляется кому? Отсутствие
откровенности в этом пункте делает данное утверждение безответственным.
Впрочем, не хотелось бы преувеличивать значимость перечисленных мною приемов.
Следует заметить, что нередко опущение тех или иных элементов бывает
вызвано не установкой на сокрытие истины, а слишком старательным следованием
усвоенному из школьного курса правилу риторики, гласящему: если ты работаешь над
письменным текстом, старайся ссылаться на себя как можно реже. Здесь пассивные
конструкции с незаполненной агенсной позицией приходятся как нельзя более
кстати. Этот прием прекрасно работает в научной прозе, где в центре сообщения
находится, как правило, не указание на людей, получивших некоторые результаты, а
описание самих этих результатов. Некоторые авторы, однако в своем следовании
избегать ссылок на себя доходят до пассивизации перформативов. И порой
последовательность более или менее нормальных пассивных конструкций увенчивается
предложением типа It is believed that these instructions will prove easily to
follow «Считается, что следовать этим инструкциям будет легко». В таких случаях
впору говорить уже не о скромности автора, а о полном сумбуре в его голове.
Мы могли бы и дальше продолжать перечисление примеров из области синтаксиса,
однако это было бы утомительно, поскольку соединение, пожалуй, любых двух
элементов в предложении при желании может быть использовано для жульничества.
Лингвисты уделяют огромное внимание анализу противопоставления не наделенных
значением подъединиц и значимых единиц более высоких уровней как определяющей
черте языка, но задолго до формирования этого противопоставления должна была
возникнуть содержащая гигантский потенциал лжи дихомия, разводящая значения и
реальный мир. Как только знаки были полностью отделены от обозначаемых ими
вещей, человек получил возможность указывать на нечто несуществующее или даже
противоположное тому на что изначально предназначены указывать знаки. У шутника,
который переворачивает стрелки указатели на улице с односторонним движением,
несомненно имелся пещерный собрат. Это не значит, что хитрость и обман не
присущи животным, но что отличает человеческую ложь, так это ее способность к
совершенствованию и оттачиванию методов. Достаточно сделать из утвердительного
предложения отрицательное, как истина обернется обманом; достаточно изменить
интонацию — и высказывание, несущее в себе сомнение, станет самым
безапелляционным.
Ложь, однако, не просто совершенствуется — она становится объектом приложения
человеческой изобретательности. Мы совершенствуем ложь посредством синтаксиса.
Мы изобретаем ее в лексике. Я подозреваю, что некоторые виды синтаксической лжи
находятся вне нашего контроля. Когда ребенка уличают в каком–то проступке, а он
говорит Я не делал этого, то его слова могут быть инстинктивным
проявлением реакции самозащиты. Но создание нового выражения является осознанным
актом, и любая ложь при этом будет преднамеренной. Самый обычный акт номинации
может иметь последствия для формирования нашего отношения к называемому.
Возьмем, к примеру, предложение Не responded t о her cry of distress букв. «Он
отозвался на ее крик страдания». Синтаксические средства, используемые в этом
предложении, менее всего нейтральны в том, что касается выражения симпатий.
Обратившись к предложению Не responded to her distress cry Он отозвался на ее
страдальческий крик, мы, однако, ощущаем известную несообразность. Выражение
distress cry страдальческий крик кое-что добавляет к лексикону: оно постулирует
некоторую классификацию, причем классификацию «клинического» характера —.
предполагающую наблюдение за объектом классификации, а не жалость либо ненависть
к нему. Карл Зиммер в работе, посвященной сложным существительным (nominal
compounds), отмечает, что для их формирования необходимо, чтобы они, с
точки зрения говорящего, осуществляли «приемлемое классифицирование» то есть они
должны представлять собой не отражение каких-то преходящих событий а некий срез
реальности. Используя сложные существительные мы можем представлять событие как
сущность (happening as thing ), и если событие достаточно часто может быть
предотвращено ено путем воздействия на его причины, то сущности живут своей
особой жизнью. Они не зависят от нас, и если мы не можем их изменить, то это
потому, что они обладают способностью к сопротивлению. Человек называющий
сельскохозяйственных рабочих из Мексики wetbacks – мокрые спины и выдергиватели
сорняков, избавляет себя от всякого чувства ответственности за нелегальный ввоз
и плохие условия работы иммйгран тов – просто такой класс людей существует.
Акт номинации, сопровождаемой в силу выбора языковых средств некоторыми
одобрительными или неодобрительными обертонами, — это излюбленный
пропагандистский прием и образец высшей утонченности в искусстве лжи. В
синтаксисе еще можно разобраться. В выражениях типа intelligible remark
вразумительное замечание или acceptable excuse приемлемое оправдание
действительно присутствует скрытая предикация, но она, по крайней мере
представлена самостоятельным прилагательным, и если вдуматься, то можно
спросить: Intelligible to whom? Вразумительное для кого?. Сложные
существительные, однако, непроницаемы: предикация в них вынесена не только за
пределы досягаемости, но и за пределы видимости.
Беспомощность, возникающая у нас в результате этого, и заставила, как мне
кажется, политических комментаторов сосредоточить свое внимание на лжи,
сопряженной с номинацией. Генри Стил Коммаджер (Commager 1972: 10) обвиняет
администрацию Никсона в том, что она заменила Большую Ложь множеством более
мелких обманов; интересно при этом, что все языковые примеры, на которые
указывает Коммаджер, в языковом плане являются сложными существительными. Я
цитирую: «Порча языка — это специальная форма обмана, которую нынешняя
администрация при помощи своих ставленников на Мэдисонавеню * довела до высокой
степени совершенства. Так, бомбардировки становятся „защитной реакцией", особо
точные бомбардировки — „хирургическими ударами", концентрационные лагеря
—„центрами умиротворения" или „лагерями беженцев",,. Бомбы, легшие вдали от
цели, суть „перерасходованные боеприпасы", а если эти бомбы накрыли селения на
вашей же территории, то это и есть всего лишь „огонь по своей территории"**..
Разбомбленный дом автоматически становится „военным обьектом", а ничего из себя
представляющая джонка, затонувшая в порту,— морским транспортом" ». «Сколь
прискорбно, — заключает автор, — что еще за 15 лет до 1984 года наше
правительство разработало систему общественного лицемерия столь же бесчестную,
как та, что описана у Оруэлла»* (там же, с. 11). Конгрессмен Драйнен, указав,
что «язык является не просто средством, пользуясь которым мы говорим о внешней
политике, он и есть наша внешняя политика» (Drinап 1972: 279), добавил, что
«систематическое использование таких затемняющих суть дела выражений, как
„защитная реакция", и пустопорожние разглагольствования лиц, отвечающих за
военное планирование, гораздо более способствуют сокрытию от людей — и от
Конгресса — процесса принятия решений, нежели любые предписания относительно
режима секретности» (там же, с. 281). Чарлз Осгуд (Osgood 1971: 4) тоже говорит
о том впечатляющем эффекте, который может возникнуть в результате номинации.
Так, название „Камелот"** «придает привкус чего-то романтического и даже
рыцарственного злополучному военному проекту США, нацеленному на изучение причин
революций», а «название системы противоракет)ной обороны,,Сейфгард"
(Предосторожность) определенно дол~ жно придавать обладателям такой системы
чувство большей безопасности. Некий оттенок благородства добавляется к грубой
силе, когда межконтинентальные баллистические ракеты получают имена „Тор",
„Юпитер", „Атлас", „Зевс", „Поларис",— прочем, я не подумал о предельном случае
семантического обмана, каковым было бы присваивание ракете имени „Венера" ».
Я опять должен сделать оговорку, потому что не хочу, чтобы создалось
впечатление, будто я думаю, что в основе всех злоупотреблений языком,
возникающих при номинации, обязательно лежит какой-то скрытый мотив. Напротив,
если бы эти злоупотребления не были привычным явлением, наш бюрократический
аппарат никогда не смог бы сколотить на них капитал. Свойственное нашему
обществу стремление к удовлетворению потребностей и решению проблем лобовыми
средствами породило манию делать все осязаемым; нашими стараниями замирает любое
движение и застывает всякое событие. Мелкий клерк демонстрирует это, извещая вас
о чем-то, что может быть сделано по получении вашего письма, — едва ли
что осталось здесь от повседневности, в которой к людям просто приходят письма.
Это же характерно и для рекламы: вам, например, предлагают не просто устройство,
которое позволит вашему аккумулятору работать дольше, а нечто, долженствующее
обеспечить ему более долгий срок службы. Представители военной бюрократии
всего лишь следуют сложившейся практике, когда они вместо того, чтобы сказать о
том, что та или иная сторона имеет более многочисленные и более совершенные
самолеты, предпочитают говорить о превосходстве в воздухе.
Бытование сложных существительных в бюрократическом языке — это всего лишь
форма массового использования тех воплощенных предрассудков, которым каждая
речевая общность позволяет процветать в лексиконе, тех слов и выражений,
нейтральные семантические черты в которых смешаны с оценочными. Скорее всего, у
любого из здесь присутствующих имеется своя собственная коллекция излюбленных
примеров подобного рода, почерпнутых из сфер бизнеса, управления или просто из
повседневной жизни. Мой любимый пример — это следующая цитата из «The Sonoma
Country Realtor» — издания для агентов по продаже недвижимости (Санта-Роса,
Калифорния): «Настоящий агент по продаже недвижимого имущества должен быть
хорошим психологом и уметь правильно формулировать свои мысли... Не стоит
говорить „плата наличными",. следует сказать „первоначальный вклад". Не требуйте
„описи имущества", спрашивайте „разрешения на продажу". Не надо говорить,
повторный заклад", говорите: „Мы постараемся найти дополнительные возможности
финансирования". Не употребляйте выражения „земельный участок", назовите это
„территорией, на которой расположен дом". Не говорите „распишитесь здесь", лучше
сказать: „Напишите свое имя в том виде, в котором вы бы хотели видеть его на
документе"» («Consumer Reports», October 1972, р. 626). В приведенной цитате
хорошо прослеживается стремление освободить понятия от возможных ассоциаций.
Такое выражение, как military conscription воинская повинность с течением
времени приобрело нежелательные коннотации и было заменено словом draft призыв,
которое, в свою очередь, тоже стало приобретать такие же коннотации и заменяется
на selective service (военная) служба для отдельных граждан. Поскольку такая
страна, как наша, больше не ведет войн, а только защищает себя, нам уже давно
пришлось заменить бывшее Военное министерство ( war Department) Министерством
обороны ( Department о f Defence). В основе всех этих лексических упражнений
лежит желание уберечь слово от появлении в нем определенных семантических
признаков. Существует и обратное явление — когда за какие-либо признак цепляются
даже тогда. когда в действительности им ничего не соответствует, в «результате
чего слово становится оружием. Назвать человека предателем в некотором смысле то
же «самое что засадить eгo в тюрьму ора эти акта, являются символическими:
предатель — позорное имя, тюрьма — позорное место. Этот механизм будет
работать до тех пор, пока людям под давлением фактов не будет позволено
переосмыслить все по-новому и прийти к заключению, что тюрьма как особое
образование — в целом, возможно, большая нелепость. Какое бы явление мы ни взяли
— будь то стремление освободить слово от ряда семантических признаков или,
напротив, стремление во что бы то ни стало их сохранить — мы должны признать,
что скорость семантических изменений все увеличивается, а процесс коммуникации
все более и более затрудняется. Здесь мы можем говорить о коррупции языка, ибо
все эти процессы являются следствием четко продуманного и хорошо финансируемого
вмешательства.
Я упомянул выше оценочные признаки. Спорадически они исследовались, но эти
исследования никогда не занимали в нашей науке центрального места. Своевременно
было бы их активизировать, особенно в контексте паралингвистики, поскольку
здесь, несомненно, есть связь с жестом. Чем больше мы узнаем о психологических
понятиях притяжения и отталкивания, тем яснее становится, сколь существенны они
для процесса нашего мышления и для значения большинства лексических единиц.
Перемещение оценочных признаков из одной части словаря в другую происходит по
своим скрытым законам, изучение которых могло бы пролить свет на то, где и как
хранится лексика в мозгу человека. Около десяти лет назад этим заинтересовалось
несколько лингвистов в рамках изучения фонестем — одного из видов звукового
символизма. Позвольте мне привести один пример. Недавно я был поражен
своеобразным различием между двумя синонимами, которые при любом буквальном
понимании оказываются близкими по значению настолько, насколько вообще могут
быть близки два слова. В 3-м издании словаря «Merriam — Webster» слова baseless
и groundless (необоснованный, беспочвенный) отмечены как абсолютные синонимы.
Мне стало интересно, почему' слово baseless воспринимается мною как более
сильное из двух. Я задал этот вопрос трем своим студентам-первокурсникам на
семинаре в Гарвардском университете. Один из полученных 38 ответов совпал с моим
собственным объяснением: слово baseless 'безосновательный' несет в себе
отзвук слова base 'основа'. Например, безосновательное обвинение
(baseless accusation) не только беспочвенно (groundless), но к тому же убого и
ничего не стоит. Язык представляет собой дебри подобных ассоциаций, в которых
легко заблудиться, если довериться плохому проводнику. Для того чтобы не завести
другого в непроходимую чащу, нужно руководствоваться сознательным стремлением не
делать этого. Истина (правда) — отнюдь не торная дорога. Это скорее тропа,
проложенная через кишащий змеями подлесок.
Существует форма лжи, использующая все описанные выше приемы. Я имею в виду
намеренное запутывание или сбивание с толку (obfuscation), хотя эта область
исследований скорее для специалиста по стилю, чем по общему языкознанию. В
тексте подобного рода, возможно, и будет содержаться какая-то информация, но ее
чрезвычайно трудно будет уловить во мраке риторической многозначительности. В
качестве примера можно привести отрывок из работы Станислава Андрески (А n d r e
s k i 1972), где он цитирует Толкотта Парсонса:
Вместо того чтобы просто сказать, что людям для достижения их целей
необходимы развитое мышление, знания и навыки, Парсонс пишет следующее: «Навыки
и умения представляют собой манипулятивные приемы для достижения целей и для
контроля за окружающим миром, чего сами по себе еще не обеспечивают специально
сконструированные в качестве инструментов машины и артефакты. Подлинно
человеческими навыками и умениями руководит упорядоченное и конифицированное
ЗНАНИЕ как объектов, на которые направлено воздействие, так и человеческих
способностей, необходимых для такого воздействия. Такого рода знание является
одним из аспектов символических процессов культурного уровня и подобно другим
символическим процессам, о которых будет сказано ниже, требует наличия
центральной нервной системы, в особенности мозга. Эта органическая система с
очевидностью является существенной для всех символических процессов...»
Возвращаясь к предметам, более непосредственно касающимся лингвистов,
невольно задаешь себе следующий вопрос: что будет, если достаточно многие из
числа наших коллег обратятся к изучению истины и лжи? Ученые берутся за опасное
дело, принимаясь за разработку инструментов, могущих быть использованными во
вред, Пролить свет на механизмы макиавеллизма это, быть может, означает помочь
становлению будущих Макиавелли. Я, однако, сомневаюсь, что мы смогли бы научить
нынешних Макиавелли чему-то такому, чего они не знают. Мы имеем дело с игрой, в
которой те, кто играют против нас, гораздо меньше нуждаются в каких-либо уроках,
чем их жертвы. Знать, как надо лгать — нагло, утонченно, вежливо, эзотерично, —
жизненно необходимо для властей, преследующих решительно непопулярные цели.
В том, что сложилось подобное положение вещей, от .части виноваты и мы сами с
нашим приятием косметического общества. Как я заметил однажды, «Америка — первое
общество, в котором фактически достигнуто табу на все неприятное» (B o linger
1962). В свое время этому чрезвычайно способствовала реклама, а теперь власти
уже боятся сказать что-либо иное. К языку обращаются за тем же, зачем к
психотерапии,— для того чтобы, как говорит Сиссмен, «обертывать неприятные
истины в цветную бумагу». Наиболее трогательный пример такого «обертывания»
прозвучал недавно в передаче бостонского радио. Складывается впечатление, что
психиатрическая служба была учреждена специально для того, чтобы заботиться о
тех ненормальных, которые боятся летать самолетами. Путешествующей публике не
пристало испытывать никаких патологических страхов по поводу того, что она
находится в ловушке на высоте тридцати тысяч футов (свыше девяти тысяч метров),
из которой есть только один выход — вниз. Сравните это отношение к пассажирам с
тем, что зафиксировано в уставах мореплавания, согласно которым на каждом судне
не только должно быть достаточное количество спасательных жилетов и шлюпок, но и
должны проводиться занятия по обучению пассажиров пользованию этими
спасательными средствами. Представьте себе эффект воздушного путешествия, если
бы пассажирам авиалиний приходилось принимать участие в парашютных тренировках,
и сравните его с нежным, спокойным голосом стюардессы, когда она небрежно
сообщает о мерах безопасности. Тон ее голоса и ее фигурка нужны для того, чтобы
отвлечь пассажиров от зловещего смысла произносимых ею слов. Все это, конечно,
не гарантирует безопасность, но по крайней мере существенно уменьшает
потребность в ней: надо забыть о парашютах и наслаждаться приятной музыкой.
Когда правительство, деловой мир и подпевающие им психиатры объединяются для
того, чтобы представить как ненормальное то, что нормально в открытом взгляду
поведении, то чего же остается ожидать от столь податливого средства, каким
является язык?
Предположим, что люди, пробудившись от апатии, стали бы уделять
лингвистической экологии такое же внимание, какое уделяется охране окружающей
среды. Какова бы могла быть реакция на это со стороны тех, кто противостоит
правде, которую нам следовало бы встретить во всеоружии? В сфере бизнеса на это
уже видны некоторые намеки — в виде реакции на сравнительно безболезненные уколы
разоблачительных кампаний за правду-в-том-то-и-том-то (прошу заметить, что пока
еще нет кампании за правду вообще). Другой возможный результат — это все большая
ставка на развитие военной промышленности, особенно производство боевой техники.
Военные заказы, помимо прочего, популярны еще и потому, что здесь можно
преуспевать без покупателей. Здесь нет разборчивых домохозяек, которые
жаловались бы на то, что пластиковые поражающие элементы, которыми снабжены
«хитрые» бомбы, не проникают в тело человека на достаточную глубину. Еще один
возможный результат, который касается нас более непосредственно, состоит в
отходе от языка. То, о чем я говорил выше, касалось отхода от ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОГО
языка. Я подразумеваю под этим следующее: нечто произносится, но произносится
таким образом, что даже самый законченный скептик будет поставлен в тупик, когда
попытается раскрыть обман. Если же, однако, обман обнаружится, что тогда? Прежде
всего, можно не делать никаких утверждений от своего лица, а подавать их как
некие свидетельства. Теренс Лангендуй, критикуя Федеральную торговую комиссию,
отмечает, что «человеку, помещающему объявление, нужно совсем немного для того,
чтобы превратить вводящее в заблуждение утверждение о акте в вводящее в
заблуждение мнение (за которое, следовательно
никто уже не несет никакой ответственности): ему надо все лишь вложить свое
высказывание в уста какой-нибудь знаменитости или „среднего потребителя"». За
последнее время процедура предъявления свидетельств дополнительно
усовершенствовалась: место прямых утверждений занимают коротенькие инсценировки.
Так, какой-нибудь доктринер доколумбовой эпохи объявляет, что земля плоская, и
строит на этом основании цепочку умозаключений, приводящих к выводу о том, что
не все сорта аспирина одинаковы. В качестве крайней меры, следующей за
использованием различных прямых и непрямых свидетельств, остается полный отказ
от использования языка: говорить совсем не обязательно — можно, например,
издавать в знак одобрения различные нечленораздельные звуки.
А сейчас от левого полушария головного мозга мы перейдем к правому. По моим
подсчетам, только в одной трети радио и телевизионных рекламных объявлении
используется исключительно язык. Остальные представляют собой некоторую смесь
языка с музыкой и другими звуковыми эффектами. В случае телевидения, конечно,
добавляются еще цвет и образ. И то обстоятельство, что чем больше окружающие
настаивают на правде, тем дальше отходят от языка те, кто в ней не
заинтересован, говорит о важности истины для языка.
Истина — проблема лингвистическая, поскольку коммуникация без истины просто
невозможна. Лакофф выделяет пять правил, которые, по ее мнению, «определяют
ситуацию разговора, какой она должна быть». Ниже приводятся первые три правила:
Правило I. То, что сообщается собеседниками друг другу, истинно.
Правило II. Все, что говорящий хочет сказать, должно быть сказано— сообщаемое
неизвестно для окружающих и не является самоочевидным. В коммуникации
присутствует все необходимое для того, чтобы адресат понял сообщаемое.
П р а в и л о III. Согласно Правилу I, говорящий, делая какое-либо
утверждение, полагает, что слушающий будет верить его словам.
Правительство и бизнес самоуверенно делают два допущения. Первое — это
допущение о возможности монопольной односторонней коммуникации, в ходе которой
общественность потребляет официальное пустословие подобно тому, как она
потребляет подачки промышленности и благотворительных организаций. Согласно
второму допущению, сформулированные Лакофф правила неважны — важна лишь иллюзия
их. Официальные лица прячутся за теми «имиджами», которые создаются для них на
Мэдисонавеню, и ложь предстает в обличье правды.
Лингвисты не могут позволить себе закрывать глаза на подобные случаи
злоупотребления языком, хотя подходы к их изучению и могут различаться. Ллойд
Андерсон видит задачу нашей деятельности в том, чтобы «снова окунуться в
изучение риторики и литературы, психологии и коммуникации, размытых и не всегда
четко вычленяемых явлений окружающего мира», полагая, что лингвистика может
внести вклад в установление «новых строгих принципов, позволяющих судить о
„ложной рекламе и „ложной коммуникации", что способствовало бы выработке
правовых установлений и журналистской этики, ориентированной на такую подачу
информации, которая имела бы объяснительную силу и была отлична от пропаганды».
Рассчитывать на скорый успех в этом деле, конечно, не приходится.